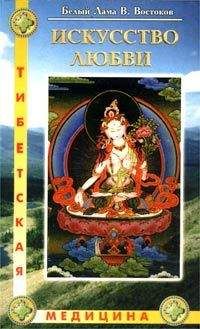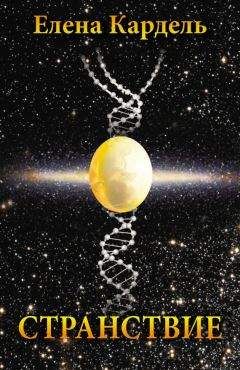Борис Акунин - Особые поручения: Пиковый валет
— Стой! Куда? — взвизгнул фистулой Еропкин. — Отдай мешок! Держи их, ребята, это фармазонщики! Ах, паскуды!
Момус рванулся к двери, благо и свет померк, но тут в воздухе что-то свистнуло, и тугая петля стянула горло. Чертов Кузьма со своим гнусным кнутом! Момус выпустил мешок, схватился за горло, захрипел.
— Момчик, ты что? — вцепилась в него ничего не понимающая Мими. — Бежим!
Но было поздно, грубые руки из темноты схватили за шиворот, швырнули на пол. От ужаса и невозможности глотнуть воздух Момус лишился чувств.
* * *Когда вернулось сознание, первое, что увидел — багровые тени, мечущиеся по черному потолку, по закопченным фрескам. На полу, помигивая, горел фонарь, должно быть, принесенный из саней.
Момус сообразил, что лежит на полу, руки стянуты за спиной. Повертел головой туда-сюда, оценил обстановку. Обстановка была паршивая, хуже некуда.
Сжавшаяся в комок Мими сидела на корточках, над ней горой возвышался немой урод Кузьма, любовно поглаживал свой кнут, от одного вида которого Момуса передернуло. Саднила содранная кожа на горле.
Сам Еропкин сидел на стуле весь багровый, потный. Видно, сильно пошумел его превосходительство, пока Момус в блаженном забвении пребывал. Двое шестерок стояли на столе и что-то там прилаживали, приподнявшись на цыпочки. Момус пригляделся, усмотрел две свисающие веревки, и очень это приспособление ему не понравилось.
— Что, голуби, — душевно сказал Самсон Харитоныч, видя, что Момус очнулся, — самого Еропкина обчистить задумали? Хитры, бестии, хитры. Только Еропкин ловчее. На посмешище всей Москве меня хотели выставить? Ничего-о, — смачно протянул он. — Щас вы у меня посмеетесь. Кто на Еропкина пасть скалит, того лютая судьба ждет, страшная. Чтоб другим неповадно было.
— Что за мелодрама, ваше превосходительство, — храбрясь, оскалился Момус. — Вам как-то даже и не к лицу. Действительный статский советник, столп благочестия. Есть ведь суд, полиция. Пусть они карают, что ж вам-то пачкаться? Да и потом, вы ведь, любезнейший, не в убытке. Кольцо старинное, золотое, вам досталось? Досталось. Клад опять же. Оставьте себе, в виде, так сказать, компенсации за обиду.
— Я те дам компенсацию, — улыбнулся Самсон Харитоныч одними губами. Глаза у него блестели неживым, пугающим блеском. — Ну что, готово? — крикнул он мужичкам.
Те спрыгнули на пол.
— Готово, Самсон Харитоныч.
— Ну так давайте, подвешивайте.
— Позвольте, в каком смысле «подвешивайте»? — возмутился Момус, когда его подняли с пола вверх ногами. — Это переходит все… Караул! Помогите! Полиция!
— Покричи, покричи, — разрешил Еропкин. — Если кто среди ночи и проходит мимо, то перекрестится да припустит со всех ног.
Мими вдруг пронзительно заверещала:
— Пожар! Горим! Люди добрые, горим!
Это она правильно рассудила — от такого крика прохожий на напугается, а на помощь прибежит или в монастырь кинется, чтоб в набат ударили. И Момус подхватил:
— Пожар! Горим! Пожар!
Но долго покричать не довелось. Мимочку чернобородый легонько стукнул кулачищем по темечку, и она, ласточка, обмякла, ткнулась лицом в пол. А Момусу вокруг горла снова обвилась обжигающая змея кнута, и вопль перешел в хрип.
Мучители подхватили связанного, заволокли на стол. Одну щиколотку привязали к одной веревке, другую к другой, потянули, и через минуту Момус буквой Y заболтался над стругаными досками. Седая борода свесилась, щекоча лицо, хламида сползла вниз, обнажив ноги в узких чикчирах и сапогах со шпорами. Собирался Момус на улице сорвать седину, скинуть рубище и преобразиться в лихого гусара — поди-ка распознай в таком «отшельника».
Сидеть бы сейчас в троечке, чтоб Мимочка с одной стороны, а мешок с большими деньжищами в другой, но вместо этого, погубленный подлым германским изобретением, болтался он теперь лицом к близкой, но увы, недосягаемой дверке, за которой были снежная ночь, спасительные санки, фортуна и жизнь.
Сзади донесся голос Еропкина:
— А скажи-ка, Кузя, за сколько ударов ты можешь его надвое развалить?
Момус завертелся на веревках, потому что ответ на этот вопрос его тоже интересовал. Извернулся и увидел, как немой показывает четыре пальца. Подумав, добавляет пятый.
— Ну, в пять-то не надо, — высказал пожелание Самсон Харитоныч. — Нам поспешать некуда. Лучше полегоньку, по чуть-чуть.
— Право слово, ваше превосходительство, — зачастил Момус. — Я уже усвоил урок и здорово напуган, честное слово. У меня есть кое-какие сбережения. Двадцать девять тысяч. Охотно внесу в виде штрафа. Вы же деловой человек. К чему отдаваться эмоциям?
— А с мальцом я после разберусь, — задумчиво и с явным удовольствием произнес Еропкин, как бы разговаривая сам с собой.
Момус содрогнулся, поняв, что участь Мими будет еще ужасней его собственной.
— Семьдесят четыре тысячи! — крикнул он, ибо ровно столько у него на самом деле и оставалось от предыдущих московских операций. — А мальчишка не виноват, он малахольный!
— Давай-ка, покажи мастерство, — велел Навуходоносор.
Хищно свистнул кнут. Момус истошно завопил, потому что между растянутых ног что-то лопнуло и хрустнуло. Но боли не было.
— Ловко портки распорол, — одобрил Еропкин. — Теперь давай малость поглубже. На полвершочка. Чтоб взвыл. И дальше валяй по стольку же, покуда на веревках две половинки не заболтаются.
Самую уязвимую, деликатную часть тела обдавало холодом, и Момус понял, что Кузьма первым, виртуозным ударом рассек рейтузы по шву, не задев тела.
Господи, если Ты есть, взмолился отроду не молившийся человек, которого когда-то звали Митенькой Саввиным. Пошли архангела или хотя бы самого захудалого ангела. Спаси, Господи. Клянусь, что впредь буду потрошить только гадов подколодных вроде Еропкина, и боле никого. Честное благородное слово, Господи.
Тут дверца отворилась. В проеме Момус сначала увидел ночь с косой штриховкой мокрого снегопада. Потом ночь отодвинулась и стала фоном — ее заслонил стройный силуэт в длинной приталенной шубе, в высоком цилиндре, с тросточкой.
По закону или по справедливости?
Уж Анисий физиономию и мылом, и пемзой, и даже песком драл — а все равно смуглота до конца не сошла. У Эраста Петровича тоже, но ему, писаному красавцу, это даже шло, получилось навроде густого загара. А у Тюльпанова ореховая мазь, полиняв, расположилась по личности островками, и стал он теперь похож на африканскую жирафу — пятнистый, тонкошеий, только вот малого росточка. Зато, нет худа без добра, начисто сошли прыщи. Совсем, будто их и не было никогда. Ну, а кожа через две-три недельки просветлится — шеф обещал. И стриженые волоса тоже отрастут, никуда не денутся.
Наутро после того, как взяли с поличным, а после упустили Валета и его сообщницу (о которой Анисий вспоминал не иначе как со вздохом и сладким замиранием в разных частях души и тела), состоялся у них с надворным советником недлинный, но важный разговор.
— Что ж, — сказал Фандорин со вздохом. — Мы с вами, Тюльпанов, опозорились, но московские г-гастроли Пикового валета, надо полагать, на этом закончены. Что думаете делать дальше? Хотите вернуться в управление?
Анисий ничего на это не ответил и только смертельно побледнел, хоть под смуглотой было и не видно. Мысль о возвращении к жалкому курьерскому поприщу после всех удивительных приключений последних двух недель предстала перед ним во всей своей невыносимости.
— Я, разумеется, аттестую вас обер-полицеймейстеру и Сверчинскому самым лестным образом. Вы ведь не виноваты, что я оказался не на д-должной высоте. Порекомендую перевести вас в следственную или в оперативную часть — как пожелаете. Но есть у меня для вас, Тюльпанов, и другое предложение…
Шеф сделал паузу, и Анисий весь подался вперед, с одной стороны, потрясенный блестящей перспективой триумфального возвращения в жандармское, а с другой, предчувствуя, что сейчас будет высказано и нечто, еще более головокружительное.
— …Если, конечно, вы не против того, чтобы п-постоянно работать со мной, я могу предложить вам место моего помощника. Постоянный ассистент полагается мне по должности, однако до сих пор я этим правом не пользовался, предпочитал обходиться один. Но вы меня, пожалуй, устроили бы. Вам не хватает знания людей, вы чрезмерно склонны к рефлексированию и недостаточно верите в свои силы. Но те же самые качества могут в нашем деле быть весьма полезны, если п-повернуть их в нужном направлении. Незнание людей избавляет от стереотипических оценок, да и вообще недостаток этот восполним. Колебаться перед принятием решения тоже полезно. Лишь бы потом, уже решившись, не медлить. А неверие в свои силы оберегает от шапкозакидательства и небрежностей, оно может развиться в благотворную п-предусмотрительность. Главное же, Тюльпанов, ваше достоинство состоит в том, что страх попасть в постыдное положение у вас сильнее физической боязни, а значит, в любой ситуации вы будете стараться вести себя д-достойным образом. Это меня устраивает. Да и соображаете вы совсем недурно для пяти классов реального училища. Что скажете?