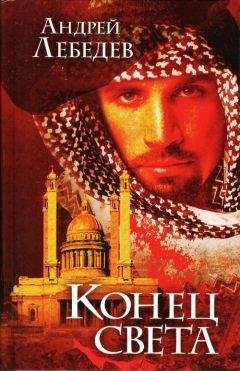Дэвид Лисс - Заговор бумаг
Я напрягся, как боец перед матчем, увидев в дальнем конце склада своего дядю. Он вскрывал ящики железным прутом по указанию толстого, обрюзгшего рябого лизоблюда, чей доход зависел от выявления нарушений и получения взятки от нарушителя. По его лицу было понятно, что ему ничего не удалось обнаружить. Дядя всегда был осторожным человеком. Подобно моему отцу, он считал, что не требуется много поводов, дабы выгнать евреев из Англии, как они были выгнаны из. других стран (как, собственно, их прогнали и из Англии много лет назад). Потому он всегда соблюдал закон, когда это было возможно, а если это было невозможно, то нарушал его с превеликой осторожностью. Обычный инспектор вряд ли нашел бы контрабанду.
Я наблюдал за ним и восхищался его спокойствием и тем уважением, которое он внушал. На отцовских похоронах дядя Мигель не выглядел сильно постаревшим по сравнению с тем, каким я его помнил. Его волосы начали кое-где серебриться, короткая бородка совершенно поседела, морщины на лице говорили, что ему около пятидесяти, но глаза были по-прежнему молоды и движения энергичны. Вряд ли он вышел бы на ринг, но был крепким мужчиной с хорошо развитыми мускулами. Он был хорошо одет, и платье подчеркивало достоинства его фигуры. Он не следовал французской моде, которой тайно способствовал, но платье его, пошитое из тонкого сукна темного цвета, было безукоризненно чистым и напоминало о строгом фасоне деловых людей Амстердама, среди которых прошли его юные годы.
Пока я наблюдал за дядей, ко мне подошел смуглый мужчина средних лет, явно обеспокоенный. Было видно, что он еврей, но чисто выбритый и одетый, как обычно одеваются английские купцы, — в сапогах, холщовых брюках, рубашке и простом длинном камзоле. На нем не было парика, и его собственные волосы, как у меня, были зачесаны назад и схвачены лентой. Глядя на этого мужчину — англичанина по платью и манерам, еврея по наружности (по крайней мере это было очевидно другим евреям), — я подумал, что, вероятно, так выгляжу сам в глазах англичан: скромно одетый и опрятный, но тем не менее явный иностранец. .
— Я могу быть вам чем-нибудь полезен? — спросил мужчина с дежурной улыбкой. Он помолчал и снова пристально на меня посмотрел. — Господи, разрази меня гром, если это не Бенджамин Лиенцо.
Тогда я узнал в мужчине Джозефа Дельгато, который долгие годы был помощником моего дяди. Он поступил на работу к дяде, когда я был еще мальчишкой.
— Я не сразу узнал тебя, Джозеф. — Я занервничал, когда возникла долгая неловкая пауза. Многое пронеслось у нас в головах, но, не сговариваясь, мы оба решили, что сказать было, собственно, нечего. Я тепло пожал его руку. — Ты прекрасно выглядишь.
— Ты тоже. Рад, что ты вернулся домой. То, что произошло с твоим отцом, ужасно. Ужасная вещь.
— Да, спасибо. — Интересно, думал ли он, что я помирился с семьей после похорон. Он выглядел растерянным, но, вероятно, считал, что его просто не посвятили в семейные дела.
— Мистер Лиенцо должен скоро освободиться. Таможенный инспектор устал от тщетных попыток уличить твоего дядю в каком-либо нарушении, поэтому устраивает показательный досмотр, после чего, разумеется, вежливо примет взятку.
— Зачем давать ему взятку, если он не нашел никаких нарушений? .
Джозеф улыбнулся.
— В коммерции столько же притворства и хитрости, как в боксе, — сказал он, довольный, что удостоил меня чести, упомянув бокс. — Если бы мы не предложили ему, так сказать, символически выразить наше уважение, он бы сам придумал, чего мы такого нарушили, и это создало бы нам массу проблем и обошлось бы дороже, чем простая взятка. Потому что нам пришлось бы платить юристам и судьям, парламентариям и муниципальному совету, а также многим другим органам власти. Благоразумнее заплатить ему. Так он становится нашим сотрудником, а не нашим гонителем.
Я кивнул и увидел, как мой дядя протягивает инспектору небольшой кошелек. Инспектор поклонился и удалился с довольным видом. Он действительно должен был остаться довольным. Дядя, как я узнал позже, дал ему двадцать фунтов — намного больше, чем тот получил бы от англичанина, занимавшегося такой же торговлей, что и мой дядя (по крайней мере, если он не был уличен в контрабанде). Такие люди наживались на евреях, пользуясь их страхом преследования.
Завершив дело с инспектором, дядя повернулся в мою сторону и посмотрел на меня с некоторым, но не сильным удивлением, словно посещение пакгауза было для меня обычным делом. Он подошел и пожал мне руку тепло, как закадычному другу.
— Дядя, — просто сказал я, так как хотел, чтобы эта встреча носила сугубо деловой характер.
Моего дядю было нелегко удивить, поэтому, когда он приподнял одну бровь, повернувшись ко мне, я посчитал это за достижение.
— Бенджамин, — сказал он, кивнув, и снова обрел самообладание.
Он смотрел на меня скорее с удовлетворением, словно мой приход доказал его правоту. Я видел, что он оценивает меня, пытаясь определить, зачем я пришел, прежде чем решить, как реагировать на мое появление. Я сдержанно улыбнулся, надеясь, что он почувствует себя более непринужденно, но выражение его лица не изменилось.
— Если я не ко времени, могу зайти в другой раз.
— Полагаю, что для такой встречи всегда найдется время, — сказал он, помолчав. — Пройдем ко мне в каморку, где мы можем поговорить без помех.
Дядя провел меня в уютную комнату с солидным дубовым столом и несколькими деревянными стульями, на сиденья которых были положены подушки. На книжной полке стояли не тома поэзии или сочинения античных авторов и не религиозные книги, а бухгалтерские гроссбухи, атласы, прейскуранты и конторские тетради. В этой комнате мой дядя совершал большую часть своих официальных сделок в бизнесе, который начал около тридцати лет назад, когда они с моим отцом приехали в Англию.
Велев слуге приготовить нам чай, он сел за стол.
— По всей видимости, тебя привела сюда не тоска по семье, а какая-то нужда. Это не имеет значения. Однажды твой отец сказал мне, что, если ты вернешься, не важно, по какой причине, он выслушает тебя внимательно и оценит твои слова беспристрастно.
Мы оба молчали. Мой отец никогда не говорил мне ничего подобного. Правда, я никогда не давал ему возможности, но все равно это не было похоже на моего отца, каким я его помнил. Отец постоянно спрашивал, отчего я не такой прилежный, не такой целеустремленный, не такой умный, как мой старший брат Жозе. Мне вспомнилось, как однажды, когда мне было одиннадцать, я прибежал домой, дрожа от возбуждения, с разорванными чулками и лицом измазанным грязью. Было воскресенье, рыночный день для евреев с Петтикоут-лейн, и слуги разгружали купленные продукты под отцовским надзором — отец хотел, чтобы каждый слуга в доме знал, что может быть подвергнут досмотру в любой момент. Я вбежал на кухню дома, который мы снимали на Кри-Черч-лейн, и чуть не столкнулся с отцом. Он остановил меня, положив руки мне на плечи. Но это не было проявлением нежности. Он посмотрел на меня сверху вниз своим решительным взглядом. Выглядел он комично. Под нелепо огромным белым париком была особенно заметна черная щетина на подбородке, хотя не далее чем три часа назад он вышел от цирюльника.
— Что с тобой случилось? — строго спросил он.
Мне пришло на ум, и это меня немало возмутило, что он спросит, не ушибся ли я, поскольку было видно, что я дрался, но гордость подавила возмущение, так как вкус победы был еще свеж в моей памяти.
Я бродил по переполненному рынку, как все евреи в округе, которые делали покупки по воскресеньям, и все лучшие купцы выставляли в этот день на продажу продукты, одежду и другие товары. В воздухе стоял аромат жареного мяса и свежих пирожных, смешанный с вонью сточной канавы, которая протекала к востоку от нашего квартала. Определенных планов я не имел, но у меня были несколько пенсов в кармане и ловкая рука, и я ждал возможности или истратить свои монеты, или схватить что-нибудь вкусное и скрыться в толпе.
Я рассматривал желейные конфеты, которые было трудно стянуть, ибо они лежали далеко от края прилавка, и не мог решить, достаточно ли они вкусны, чтобы пожертвовать на них свои драгоценные монеты. Я уже решился на покупку дюжины леденцов, когда услышал хриплые крики мальчишек, которые пытались протолкнуться сквозь толпу. Мне приходилось видеть таких мальчишек раньше. Этим маленьким негодяям нравилось толкать евреев, так как они знали, что евреи не осмелятся дать сдачу. Они не были злодеями, эти мальчишки лет тринадцати, — судя по внешности, сыновья лавочников или купцов. Им не доставляло удовольствия мучить свои жертвы, зато нравилось причинять вред безнаказанно. Они носились по рынку, сбивая людей с ног или переворачивая чей-нибудь прилавок с товаром. Подобные проделки вызывали у меня негодование — не из-за вреда как такового, я был сам виновен в подобных и более серъезных вещах, а из-за того, что никто не осмеливался задать этим парням заслуженную взбучку. Вдобавок, я в то время я не знал, как это выразить, из-за них мнене хотелось быть англичанином и евреем одновременно.