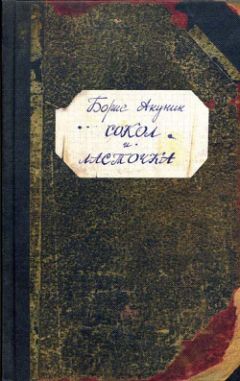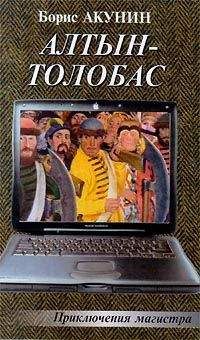Борис Акунин - Сокол и ласточка
Фердинанд отремонтировал и украсил дедовское гнездо, привел в порядок хозяйство и зажил образцовым помещиком, на зависть знакомым и соседям. Но и эта стезя, подобно военной, его подвела. Оспенный мор унес жену с сыновьями, изрыл красивое лицо фон Дорна рытвинами и пощадил только маленькую дочку. Обычный человек сошел бы от горя с ума, но вечный счастливей и тут не утратил бодрости. Да я в рубашке родился, не уставал повторять он. Во-первых, обманул лекарей и не умер, пусть метки на лице будут постоянным напоминанием об этом подарке судьбы. Во-вторых, уцелела моя крошка Летиция, даже личико не пострадало — это ли не чудо? В-третьих же, глупо сидеть в глуши барсуком, зарывать свой талант. Есть вещи увлекательней яровых и озимых. Например, карьера дипломата.
И он поступил на службу к электору баварскому. Странствовал по свету, выполняя неофициальные, часто рискованные поручения. Если удачно с ними справлялся — все говорили, что советник фон Дорн невероятно везуч. Если миссия проваливалась, говорили: везет Дорну, как это он только жив остался.
На рассвете дня, который я описываю, Фердинанд отправляется в очередное путешествие, из которого бог весть когда вернется, а может, не вернется вовсе. Рыжей девочке ужасно хочется, чтобы он обернулся, хочется его окликнуть, но она не решается. Машет рукой, по искаженному личику текут слезы.
Но всадник не оборачивается. Он уже забыл о сером замке, о рыжей девочке — его манит сверкающая солнечными искрами дорога.
Другая картинка.
Девочки-подростки (все в одинаковых коричневых платьицах с белым кружевным воротничком) сбились в кучку у подоконника и смотрят, как по узкой улице фламандского города движется свадебный поезд. В открытом экипаже едут молодые: он очень хорош в алом плаще и треуголке с перьями, она — в пышном бело-серебряном наряде. У всех пансионерок одинаковое выражение лиц — мечтательно-восторженное. Нет, не у всех. Долговязая худышка сложила губки коромыслом, а рыжеватые бровки домиком. Бедняжка знает, что некрасива. Никогда ей не ехать в белом гипюре под приветственные крики, рядом с писаным красавцем.
Еще.
Петиция подросла. Уже девушка. Высокая, стремительная в движениях, с загорелым лицом и облупившимся от солнца носом. Она ловко сидит в седле — не амазонкой, а по-мужски, потому что одета в кюлоты и рубаху (ей ужасно нравится носить старые вещи отца). Рядом, тоже верхом, Фердинанд. «Не трусь, — говорит он. — Ты из рода Дорнов. Вперед!».
Ей очень страшно, но она гонит коня к барьеру — дереву, поваленному бурей. Не выдерживает, зажмуривается. Лошадь чувствует состояние всадницы и перед самым препятствием делает свечку. Будто памятью собственного тела я ощущаю удар о землю, черноту обморока. Потом вижу над собой нахмуренное лицо отца. Первое чувство — паника. Он разочарован!
«Я попробую еще раз», — говорит девушка.
Снова разгон, но теперь она глаз не закрывает. Полет, перехватило дыхание — и обжигающее счастье. Я сделала это! Он может мной гордиться!
Опять вдвоем с отцом.
Фердинанд фон Дорн пытается делать свирепое лицо, что у него плохо получается.
«Я проткну тебя, как перепелку!» — рычит он, размахивая шпагой, на острие которой насажена винная пробка. Но, если клинок пробивает защиту и был в живот или грудь, это все равно очень больно.
Петиция уворачивается, парирует удары, а стоит противнику ослабить натиск, немедленно переходит в контратаку.
Фердинанд доволен.
«Барышне полезно прикидываться слабой и беззащитной, чтобы дать возможность мужчинам проявить рыцарство, — говорит он во время паузы, закуривая трубку. — Однако нужно уметь за себя постоять. Не всегда рядом с гобои окажется рыцарь. Если у тебя нет оружия, бей обидчика носком в голень или коленкой в пах, и тут же лбом или кулаком в нос. На такие удары большой силы не нужно».
Дочь кивает. Думает: «Он знает, что у меня никогда не будет мужа, поэтому и учит. И очень хорошо, что не будет».
Теперь мне понятно, почему Кривой Волк потерпел на Испанской набережной столь быстрое и позорное поражение.
Больше всего картин, где Летиция одна. Собственно, она почти всегда одна. С книгой в саду.
Зимой у окна — смотрит на пустое поле.
Вот поле стало зеленым — уже весна, но девушка сидит в той же позе.
Иногда она держит в руках письмо и улыбается — это прислал весточку отец Но чаще пишет сама.
Я без труда могу заглянуть ей через плечо и проследить за кончиком пера, выводящего на бумаге ровные строчки.
«Умоляю вас, батюшка, не верить мягкости константинопольского климата. Я прочла, что ветер с Босфора особенно коварен в жару, ибо несомая им прохлада кроме приятности таит в себе опасность простуды, столь нежелательной при вашей слабой груди…». Или другое письмо, более интересное, но пронизанное горечью:
«Милая Беттина, в отличие от тебя, я предпочту прожить свои век старой девой. Радости материнства, в коих ты чаешь найти утешение, кажутся мне сомнительными. Они вряд ли способны оправдать тяготу жизни с супругом. Ведь мужчины грубы, хвастливы, жестоки, они считают нас глупыми и ни на что кроме деторождения не годными, а сами очень плохо умеют распорядиться властью, которую захватили. Впрочем не буду с тобой лукавить. Когда я вижу красавца с умным лицом и гордой осанкой, в особенности если у него еще зеленые глаза, мое дурацкое сердце сжимается и ёкает, но, по счастью, зеленоглазые красавцы на моем пути попадаются редко, и я всякий раз нахожу в них какой-нибудь изъян. Зелен виноград! Скорей бы уж миновала молодость, проклятый возраст, почему-то называемый золотой порой жизни. Единственный мужчина, с кем я хотела бы жить, — мой дорогой отец. Скоро ему наскучит странствовать, он вернется в Теофельс, и тогда я буду совершенно счастлива».
Письма, одинокие прогулки верхом, книги, снова письма. Дни жизни Летиции окрашены в неяркие цвета — светло-зеленый, блекло-желтый, серый. Или мне это кажется, потому что я привык к сочным краскам южных морей?
Потом гамма вдруг меняется, мир чернеет, будто погрузившись в мрак ночи или затмения.
Я вижу Летицию с отцовским письмом в руках — опять. Но она не улыбается, а плачет.
Фердинанд фон Дорн пишет, что ему опять невероятно повезло. Он вел тайные переговоры с турками ввиду надвигающейся войны и полнил некоторые очень важные гарантии для своего государя. Правда, на обратном пути корабль был захвачен марокканскими корсарами, но судьба и тут не оставила своего любимца. Он, один из немногих, остался жив, и хоть в настоящее время содержится в темнице в малоприятных условиях, но уже сумел договориться о выкупе. Нужно собрать и доставить в марокканский порт Сале 5000 французских ливров. Придворная канцелярия, конечно же, не пожалеет такой пустяшной суммы за освобождение дипломата, столь много сделавшего ради славы и прибытка его высочества курфюрста.
О, я хорошо знаю, что собой представляют марокканские корсары из страшного города Сале! От одного этого названия бледнеют моряки всей Европы.
Морские разбойники Барбарии бесстрашны и дики. Их флаг — отсеченная рука с ятаганом. Низкие, проворные корабли мавров шныряют вдоль побережья Иберии, Франции и Англии, добираясь даже до Ирландии. Ужасней всего, что охотятся они на людей. Повелитель марокканских исчадий ада, султан Мулай-Исмаил, требует от своего порта Сале платить подать живым товаром. Султану нужны женщины для гаремов и рабочие руки.
А еще белые пленники нужны Мулаю, чтобы продавать их христианским монархам за выкуп. Обычная цена за голову — 800 ливров, так что Фердинанда фон Дорна, видно, сочли важной птицей (сомнительное везение). С другой стороны, иначе его не оставили бы в Сале, а отправили в цепях вглубь Барбарии, в город Мекнес, где султан строит посреди пустыни огромный город-дворец протяженностью в 300 миль.
Про Мулай-Исмаила известно, что он свиреп и непредсказуем. Каждый день он кого-нибудь убивает собственноручно — за мелкую провинность или просто так, для забавы. Подданные с трепетом ждут, в каком одеянии султан нынче выйдет. Если в зеленом, значит, смертей будет немного. Если в желтом, жди большой беды. Из всех иноземных владык Мулай считает себе равным только Короля-Солнце, и потому французские корабли могут плавать по Средиземному морю и Бискайскому заливу без страха. Без опаски заходят они и в марокканские порты — в этом арматор Лефевр не солгал.
Однако я отвлекся.
На письме из Сале картинки не закончились, но темп их убыстрился — все последние месяцы Петиция жила, словно сотрясаемая лихорадкой.
Я увидел кабинет в Мюнхене, услышал равнодушный голос, объясняющий, что турецкая поездка господина фон Дорна была не официальной и потому казна не несет за нее никакой ответственности.