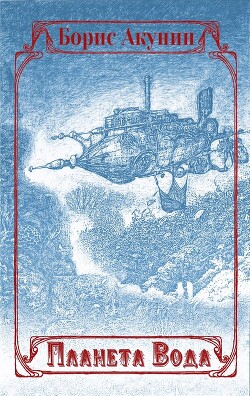Операция «Транзит» - Акунин Борис "Чхартишвили Григорий Шалвович"
— Ой, мамочки, нет! Не буду! — взвизгнула девица, которую усаживали на стул, оттолкнула парикмахера, побежала назад, стуча каблучками — и заволновался коридор, заохал, закудахтал.
Но к освободившемуся месту подошла тоненькая барышня с чудесными светло-русыми волосами, взбитыми волной, с огромными глазами врубелевской царевны, с решительно поджатыми белыми губами.
— Стригите!
До того она была хороша, что парикмахер, уже завернув девушку простыней, всё медлил.
— Эх, рука не поднимается. Может, передумаете, мадемуазель? Я по-отечески. Куда вам на фронт? Вон ручки-то у вас. Только веером махать.
Но барышня сквозь зубы повторила:
— Стригите.
И упали на плечи прекрасные локоны, а затем машинка простригла по затылку дорожку, и в полминуты царевна-лебедь превратилась в гадкого утенка: маленькая голая головка на тонкой шее, а на макушке бледно-лиловое родимое пятно, прежде невидимое. И так стало Алексею противно от зрелища изуродованной, зря погубленной красоты, что он прошептал: «Черт знает что!» — и пошел прочь с проклятого места.
Где именно находится штаб батальона в этом содоме понять было трудно. Романов сначала поднялся на этаж, потом на два спустился. Можно было бы спросить у бродивших по корпусу доброволок, но Алексею не хотелось вступать ни в какие разговоры с этими горе-амазонками. Как к ним, собственно, обращаться? «Эй, солдат»? «Сударыня»?
Наконец набрел на дверь с табличкой «Директриса». Должно быть, здесь. Во всяком случае, перед входом торчал часовой (то есть, тьфу, часовая) со штыком на ремне.
— Господин офицер, сюда нельзя.
— Мне всюду можно, — огрызнулся Романов. — Я назначен старшим инструктором.
Коротко постучал, распахнул дверь. Увидел вереницу совершенно голых женщин, выстроившихся в очередь к столу, за которым сидели люди в белых халатах. Оглушенный визгом, захлопнул створку.
— Что тут такое? — зло спросил он у часовой, хотя и так было ясно: медосмотр.
— Медицинский осмотр. Потом — стричься. Потом — в баню. Потом — получать обмундирование. Такой порядок.
— А где командир батальона?
— Вон она, — показала куда-то в сторону солдатка (нет, «солдатка» — это жена солдата). — Интервью дает.
В дальнем конце коридора, у окна, виднелись три силуэта, высвеченные солнцем: длинный мужской, еще один мужской, но скрюченный над фотокамерой, и приземистый, бочкообразный, в галифе и фуражке.
— Ин-тер-вью… — пробормотал Алексей, присовокупив нехорошее слово.
Ну понятно. Перед прессой красуемся.
— Что, господин офицер? — удивилась солдат (нет, так тоже не скажешь). — Извините, я не расслышала.
— Как вас называют? Не «солдат», не «солдатка». Вы сами как себя называете?
— Мы «ударницы». Ведь мы — Ударный батальон Смерти.
— Спасибо, что не «смертницы»…
Фотограф полыхнул магнием, поймав хороший ракурс: толстуха в офицерском френче картинно оперлась кулаком о монументальное бедро, а щекастую физиономию с носом-кнопкой гордо задрала кверху.
Хоть на груди (большущей, непонятно как втиснувшейся в военную форму) сверкали начищенные кресты и медали, баба-прапорщик произвела на Алексея неприятное, даже отталкивающее впечатление. Вся она была каким-то издевательством, глумлением и над боевыми наградами, и над честью мундира. Лицо плоское, грубое, глаза с поросячьими ресницами, голос прокуренный — и видно за двадцать шагов, что вся исполнена сознанием своего величия. Что там она отвечала журналисту, важно кивая головой, Романов не слышал. Он остановился на изрядном расстоянии, дожидаясь, пока Бочарова закончит пыжиться перед прессой.
Уже придумалось, как выпутаться из этого скверного анекдота. Нужно с ходу нагрубить, повести себя вызывающе. Надутая индюшка нипочем такого не стерпит, выгонит непочтительного помощника в шею. Тогда можно с чистой совестью, не нарушив слова, идти за новым назначением.
— Госпожа Бочарова, наши читатели интересуются, почему вашей части дано такое поэтическое название: «Батальон смерти»? — спросил корреспондент.
Тут Алексей сделал несколько шагов вперед. Любопытно было послушать, что она ответит.
Вблизи стало ясно, что Бочарова не важничает и не позирует, а просто переминается с ноги на ногу от нетерпения и явно хочет побыстрей отделаться от интервьюера.
Хмурясь, она коротко ответила:
— Потому что мы все умрем.
Сказано было без пафоса, скорее с досадой, словно женщине скучно объяснять очевидные вещи. Романов сощурился, решив приглядеться к этой шарообразной тетке получше.
— Но на войну идут, чтоб победить, а не чтоб умирать, — возразил репортер.
— Это мужчины. А женщина, коли уж взяла ружье, значит, совсем край. Вот полягут мои девочки, мужики на это поглядят. Может, стыд их возьмет. И бросят дурака валять, возьмутся воевать всерьез. Тогда немец сам мира запросит, война и кончится… Всё, времени больше нет. Дел много.
Маленькие глазки были устремлены на Алексея.
— Вы ко мне?
С грубостью Романов решил пока повременить. Слова Бочаровой его поразили.
— Штабс-капитан Романов, назначен старшим инструктором.
Командир батальона пожала ему руку. Лапища у нее была большая и сильная, неженская. Предписание Бочарова читала медленно, шевелила губами, как обычно делают не шибко грамотные люди.
— Нужен портрет, для первой полосы, — попросил фотограф.
Бочка (прозвище очень к ней шло) расправила складки френча, выпятила грудь, грозно сдвинула белесые бровки, но снимок был испорчен. Из-за угла донесся топот, крики, и командирша повернула голову.
— Госпожа начальница!
К ней с плачем кинулась девушка в гимнастерке, но без фуражки. Луч солнца сверкнул на бритом черепе. Следом высыпала целая гурьба таких же тонкоголосых солдат. Заговорили разом.
— Я больше не буду! — рыдала непокрытая. — Честное слово! Миленькая, родненькая! Вот на кресте побожусь! — Вытянула крестик. — Уши-то вон они! Сами поглядите!
Завертела головой, демонстрируя маленькие, аккуратные ушки.
Остальные кричали:
— Она сережки в уборную выбросила! Честное слово! Соня больше не будет! Не выгоняйте ее, пожалуйста!
Бочка топнула ногой:
— Я сказала — всё. Домой ступай!
Рыдающая упала на колени, воздела руки:
— Ну заради Бога! Простите, госпожа начальница!
— Форму сдай и чтоб ноги твоей здесь не было.
— Госпожа начальница, ну куда она пойдет? Волосы обрила, сережки золотые выкинула! Мы все за нее просим!
Лицо командирши побагровело. Она взялась обеими руками за ремень, будто хотела выпрыгнуть из своих необъятных галифе, и гаркнула голосом, от которого задребезжало стекло:
— Молча-ать! Смиррно! — Все ударницы кроме той, что стояла на коленях, испуганно вытянулись. — Кррругом! Шагом марш!
Толкаясь локтями, испуганные женщины карикатурным строевым шагом удалились, осталась лишь безнадежно всхлипывающая изгнанница.
— Могу я узнать, в чем провинилась эта девушка? — спросил корреспондент.
— Сережки навесила.
С улыбкой покосившись на Алексея, журналист заметил:
— Это преступление небольшое.
— В уставе нигде не прописано, чтоб солдат серьги носил.
Репортеру было жалко бедняжку.
— Но в уставе нет ничего и про женщин-солдат. Простите ее, право, для первого раза. Вы же видите, как она раскаивается.
Девушка с надеждой протянула к командирше сложенные руки:
— Никогда в жизни больше сережки не надену! Чем хотите поклянусь!
Бочка тяжело вздохнула. Сначала ответила журналисту:
— Поймите вы. Раз сережки нацепляет, значит про жизнь думает. А нам надо к смерти готовиться.
Девушке же сказала тихо, но твердо:
— Уходи, Семочкина. Живи. А волосы новые вырастут… Пойдем, капитан, потолкуем.
Взяв Алексея под локоть, повела его прочь.
Пока шли до штаба, расположившегося в бывшем танцклассе, начальница батальона наскоро рассказала, как обстоят дела.
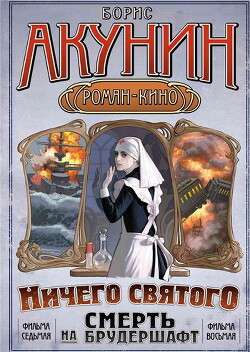
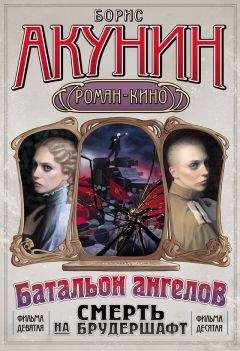
![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (Фильма 9-10) [Операция «Транзит» + Батальон ангелов]](/uploads/posts/books/165373/165373.jpg)
![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (Фильма 9-10) [Операция «Транзит» + Батальон ангелов] [только текст]](/uploads/posts/books/165415/165415.jpg)