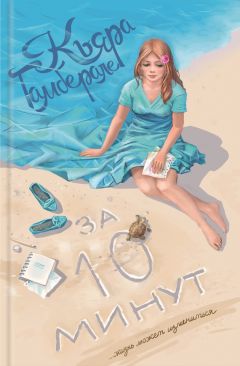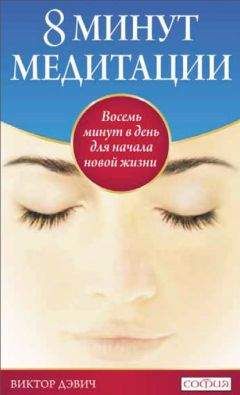Эллис Питерс - Послушник дьявола
Брат Павел, выходя перед повечерием из покоев аббата, явно ощущал облегчение и радость при мысли, что покой сохранится и после того, как Мэриета выпустят из тюрьмы.
— Отец аббат говорит, что предложение исходит от тебя. Это хорошая мысль. Нам необходима длинная пауза, а потом можно начать сначала. Дети довольно быстро забывают ужасы, которые их терзали. Но такое насилие — его нелегко забыть.
— Как поживает кающийся грешник? — спросил Кадфаэль. — Ты наведывался к нему после моего утреннего посещения?
— Наведывался, и я не очень-то уверен в его раскаянии, — с сомнением проговорил брат Павел, — но он тих и покорен и терпеливо выслушивает наставления. Мы все совершили большую ошибку, раз в темнице он чувствует себя лучше, чем на воле, среди нас. Мне кажется, единственное, что его мучает, — это безделье, поэтому я и принес ему проповеди святого Августина, лампу получше, чтобы он мог читать, и доску, которую можно укрепить на кровати. Ты, наверное, дал бы ему трактат Палладия о сельском хозяйстве, — мягко пошутил Павел. — Тогда у тебя был бы повод забрать его к себе в сарайчик, когда брат Освин покинет тебя.
Такая мысль приходила в голову Кадфаэлю, но нет, лучше пусть мальчик совсем уйдет отсюда под начало доброго Марка.
— Я не просил нового разрешения, — проговорил он, — но, если можно, с радостью навестил бы Мэриета перед сном. Я не говорил, что собираюсь ехать к его отцу с поручением от аббата, не скажу и сейчас, но там два человека послали ему сердечный привет, который я обещал передать.
Была там еще и девушка, которая привета не передала, но может быть, у нее были свои соображения на этот счет.
— Ну конечно, ты можешь зайти к Мэриету перед повечерием, — сказал брат Павел. — Он же просто отбывает наказание, остракизму его никто не подвергал. Избегать общения с ним — таким путем его в нашу семью не приведешь, а ведь именно к этому мы стремимся.
Не такую цель преследовал Кадфаэль, но счел за лучшее промолчать. Для каждой души есть место под солнцем, однако ему было совершенно ясно, что монастырь не место для Мэриета Аспли, как бы горячо он ни просил принять его.
Мэриет зажег лампу и поставил ее так, чтобы она освещала страницы «Исповеди» Святого Августина, лежавшей в изголовье его кровати. Когда дверь открылась, юноша тут же, не без испуга, обернулся и, узнав вошедшего, расплылся в улыбке. В карцере было очень холодно, узник, чтобы согреться, надел рясу и наплечник, а по тому, как он осторожно двигался и как невольно вздрагивал, если складки рубашки касались больных мест, было понятно, что рубцы на его спине подсохли, но не зажили.
— Рад видеть тебя за таким полезным занятием, — проговорил Кадфаэль. — Небольшое усилие, когда будешь молиться, и святой Августин откроется тебе. Ты мазал спину бальзамом? Брат Павел помог бы, если бы ты попросил.
— Он добр ко мне, — сказал Мэриет, закрывая книгу и поворачиваясь к посетителю всем корпусом. Он и правда так считал, это было ясно.
— Но ты не снизошел до того, чтобы попросить помощи или признаться, что нуждаешься в ней, — я знаю! Дай-ка я сниму твой наплечник и спущу рясу. — Ряса еще не стала для юноши привычным одеянием, в котором он чувствовал бы себя свободно; в ней он двигался естественно только тогда, когда был в гневе и забывал, что на нем надето. — Ну вот, теперь ложись, а я посмотрю, что у тебя там.
Мэриет послушно подставил спину, позволив Кадфаэлю задрать ему рубашку и смазать подсохшие рубцы, на которых еще тут и там виднелась запекшаяся кровь.
— Интересно, почему я слушаюсь тебя? — спросил Мэриет тоном мягкого протеста. — Как будто ты не брат вовсе, а отец.
— Как я слышал, твоей отличительной чертой является как раз то, что ты никогда не хотел поступать, как велел тебе отец, — ответил Кадфаэль, натирая спину юноши бальзамом.
Мэриет повернул голову, и один зелено-золотой глаз уставился на Кадфаэля.
— Откуда ты так много знаешь обо мне? Ты говорил с моим отцом? — Он уже готов был дать отпор, мышцы его спины напряглись. — Чего они хотят? Зачем им это нужно, и что могут значить слова моего отца теперь? Я здесь! Если я нагрешил, я расплачиваюсь. Никто не должен улаживать мои дела.
— Никто и не предлагает, — отозвался Кадфаэль успокаивающе. — Ты сам себе хозяин, как бы плохо ты собой ни распоряжался. Ничего не изменилось. За исключением того, что я принес вести, которые никоим образом не задевают свободы вашей милости искать для себя спасения или проклятия. Твой брат шлет самый теплый привет, он просил меня сказать, что всегда помнит о тебе и любит тебя.
Мэриет лежал очень тихо, только его загорелая кожа слегка подрагивала под пальцами Кадфаэля.
— И леди Розвита тоже передает, что любит тебя, как и положено сестре.
Кадфаэль размял рубашку Мэриета, там, где ее складки стали жесткими от засохшей крови, и накрыл ею подживающие раны, от которых скоро не должно было остаться и следа. Раны, нанесенные беспощадной Розвитой, могли оказаться куда более тяжелыми.
— Теперь накинь рясу. Будь я на твоем месте, я бы потушил лампу, бросил читать и заснул.
Мэриет продолжал лежать ничком, не произнося ни слова. Кадфаэль натянул одеяло ему на плечи и выпрямился, глядя на безмолвно застывшую на кровати фигуру.
Но вот юноша как бы ожил, широкие плечи затряслись, попытки сдержаться не удавались, лицо он по-прежнему прятал, укрывая руками. Мэриет горько рыдал. Кого он оплакивал — Розвиту или Найджела? Или собственную судьбу?
— Сынок, — проговорил Кадфаэль полусердито, полуласково, — тебе девятнадцать лет, ты еще не начал жить и при первой же беде решил, что Бог покинул тебя. Отчаяние — смертный грех, но смертельная глупость — еще хуже. У тебя много друзей, и Бог следит за тобой так же внимательно, как всегда. Все, что тебе нужно сделать, чтобы заслужить Его милость, — терпеливо ждать и беречь свою душу.
Медленно затихая и сердито пытаясь сдержать слезы, Мэриет все же слушал монаха.
— И если уж ты хочешь знать, — произнес Кадфаэль как бы против воли, и голос его оттого прозвучал весьма раздраженно, — да, благодарение милости Божьей, я отец. У меня есть сын. И ты — единственный, кто кроме меня знает об этом.
С этими словами, прищипнув фитиль, он погасил лампу, в темноте направился к двери и стал стучать, чтобы его выпустили .
Когда на следующее утро Кадфаэлъ пришел к Мэриету, трудно было определить, кто из них держится отчужденнее и настороженнее после вчерашних минут откровенности. Совершенно ясно, об их продолжении не могло быть и речи. На лице у Мэриета застыло строгое и спокойное выражение, не допускающее и мысли о возможной слабости, а Кадфаэль был грубоват и деловит; оглядев следы побоев, которые еще были заметны на спине его трудного пациента, он объявил, что тот уже не нуждается в его помощи, что Мэриету следует сосредоточиться на чтении и использовать время своего заточения для блага собственной души.
— Это должно означать, — спросил Мэриет прямо, — что ты умываешь руки, отказываешься от меня?
— Это означает, что у меня нет больше предлога просить разрешения приходить сюда. Ведь подразумевается, что ты должен размышлять о своих грехах в одиночестве .
Мэриет бросил хмурый взгляд на каменную стену, а потом спросил принужденным тоном:
— Это не потому, что ты боишься какой-нибудь нескромности с моей стороны, после того как ты был так добр и доверился мне? Я никогда никому не скажу ни слова, если только ты меня об этом не попросишь.
— Такая мысль и не приходила мне в голову, — заверил его Кадфаэль, удивленный и растроганный. — Ты думаешь, я сказал бы это болтуну, который не сможет оценить оказанное ему доверие? Нет-нет, просто у меня нет права входить сюда и выходить без основательной причины, и я должен так же подчиняться правилам, как и ты.
Легкий ледок отчуждения растаял.
— Очень жалко, — сказал Мэриет, выпрямившись, и неожиданно улыбнулся такой улыбкой, что Кадфаэль потом долго вспоминал о ней, — одновременно ласковой и необыкновенно грустной. — Мне гораздо лучше думается о моих грехах, когда ты тут бранишься. Оставаясь один, я почему-то все время думаю о том, с какой радостью я заставил бы брата Жерома съесть его собственные сандалии.
— Будем считать это исповедью, — заключил Кадфаэль, — притом такой, которая не предназначена для чужих ушей. А свою епитимью ты должен выполнять без меня, пока не истекут десять дней, отпущенные для смирения твоего духа. Боюсь, ты неисправим и не станешь молиться об этом, но попробовать можно.
Кадфаэль уже подошел к двери, когда Мэриет озабоченно окликнул его:
— Брат Кадфаэль… — и, когда тот обернулся, продолжил: — Ты не знаешь, что они собираются делать со мной потом?
— Во всяком случае, выбрасывать не собираются, — ответил Кадфаэль и, не видя причины скрывать планы, которые составлялись на счет Мэриета, поведал о них. Похоже, в этих планах ничто не изменилось. То, что он в безопасности, что его не прогонят, успокоило Мэриета, придало уверенности, умиротворило. Он услышал то, что ему было нужно. Но от этого он не стал счастливым.