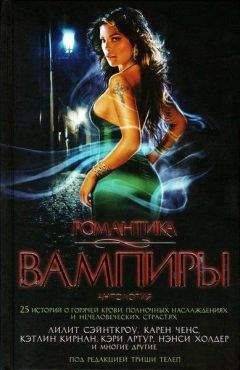Джанет Глисон - Гренадилловая шкатулка
Но что это? Невольно вскрикнув, я отшатнулся. Все мое существо пронзили ужас и отвращение. Даже сейчас, когда я вспоминаю то мгновение, моя рука трясется, перо дрожит, и я не уверен, что смогу описать кощунство, свидетелем которого стал. И все же я понимаю, что без этих жутких подробностей мой рассказ не будет полным. Я обязан изложить то, что увидел.
Вместо пальцев торчали четыре изувеченных обрубка — оголенные сухожилия, кость, обескровленная, раскисшая в воде плоть. Крайние фаланги отсекли либо оторвали.
Что мне было делать перед лицом такого изуверства? Как реагирует человек, нашедший своего близкого друга жестоко искалеченным? На самом деле в подобные моменты, когда мы скованы ужасом, реальность утрачивает всякий смысл. Мы впадаем в бесчувствие, не знаем, кто мы, как нам действовать. Мы ведем себя не так, как должны. Я задрожал сильнее, чем прежде. В желудке всколыхнулась желчь. Горло горело, в глазах возникла резь. И все же я стал пленником крайнего волнения. Я не мог кричать, не мог говорить и шевелиться. Словно под гнетом этого последнего свидетельства насилия мои природные рефлексы отказали, и меня, как и все вокруг, сковало морозом. Я знал, что мне нужно плакать, горевать, я хотел выплеснуть свои чувства. Но не выплескивал, не мог, потому что в груди у меня все окаменело.
Для работников Партридж был посторонний человек, и потому они более непосредственно откликнулись на жестокость.
— Боже правый, — присвистнул один, — жуть какое зверство. Такого я еще не видел.
— Наверно, топором отсекли, как будто свинью разделали.
— Да нет, видишь, какие ошметки на концах? Раны рваные — как будто пальцы оторвали или откусили…
— Кто ж это мог сделать?
— Лисы или барсуки… или пес Монтфорта. Бог свидетель, он никогда его не кормил. Любил держать в голоде.
Я больше не мог этого выносить.
— Господи помилуй! — вскричал я. — Неужели в вас нет ни капли уважения, ни капли сострадания к мертвому? Этот человек был моим другом, моим самым близким другом. Я не хочу больше слышать ни слова!
Работники догадались, что своими праздными рассуждениями они усугубляют мои душевные муки, и замолчали. Глядя на мою согбенную фигуру, сидевшую на корточках перед распростертым на земле Партриджем, они неловко топтались на месте в тщетной попытке согреться. Конечно же я не хотел держать их возле себя. Более чем когда-либо я жаждал остаться один, наедине со своим горем и мыслями о Партридже. Но я понимал, что, пока я не обращусь к ним, не дам четких указаний, мы так и будем все вместе торчать у злосчастного пруда. Я собрался с силами, заставил себя подняться и занялся решением насущных вопросов. Надо отнести Партриджа в дом, сказал я работникам. Здесь мы для него уже ничего не сделаем.
Из двух досок и веревок мужчины соорудили носилки и положили на них Партриджа. Я снял с себя пальто, накрыл им лицо своего несчастного друга, и наша скорбная процессия направилась к особняку. Работники с носилками шли впереди, я брел следом.
Мы положили его в пустой кладовой, и, пока посылали за судьей Уэстли, я дежурил возле трупа. Спустя час с улицы донесся скрип колес, и в помещение стремительно вошел Уэстли. Коротко кивнув мне, он приступил к обследованию тела Партриджа. Невозмутимо, словно перед ним лежала баранья туша на колоде мясника, он осмотрел изуродованную руку, потом вторую, неповрежденную, затем обшарил карманы мертвеца. Их содержимое — три серебряных шиллинга, один золотой соверен, носовой платок, перочинный нож и свернутый листок бумаги — Уэстли выложил в ряд на столе возле трупа. Листок он развернул и внимательно изучил, но тот так долго находился в воде, что чернила почти растворились, расплылись, и разобрать текст было невозможно. Судья не обнаружил ничего такого, что объясняло бы, каким образом Партридж оказался в Хорсхите, тем более в пруду. Ничего, что объясняло бы его смерть.
Через несколько минут Уэстли внезапно повернулся ко мне и спросил:
— Так вы знали его, Хопсон?
Я кивнул и поведал ему, что мы вместе работали в мастерской Чиппендейла. Партридж перед Рождеством занемог; если б не болезнь, он, вероятно, сам собирал бы библиотеку в Хорсхите. Поскольку Партридж в последние дни не появлялся в мастерской, я не мог взять в толк, зачем ему было приезжать в Хорсхит. Обстоятельства его внезапной гибели для меня тоже оставались тайной.
Выслушав без комментариев мой короткий рассказ, Уэстли распорядился, чтобы через час я пришел к нему в библиотеку. Ему требовалось выяснить еще кое-какие вопросы относительно Партриджа, которые, возможно, прольют свет на гибель Монтфорта, и он хотел записать мои показания.
Войдя в библиотеку, я увидел, что Уэстли сидит за большим письменным столом с кожаной окантовкой; перед ним лежали стопка писчей бумаги, гусиное перо, стояли чернильница и коробочка с угольным порошком. Лорд Фоули каким-то образом узнал о трагическом происшествии и немедленно прибыл в Хорсхит-Холл, предлагая свою помощь. Он расположился на некотором удалении от стола, перед камином, полностью утонув в большом кресле: виднелись только его ноги и локоть, покоившийся на подлокотнике. Я с облегчением отметил, что тело Монтфорта уже унесли из комнаты — вероятно, готовили к погребению, — и что свирепого пса тоже нигде нет.
— Однако очень странное дело, Хопсон, — произнес Уэстли, пытливо взглянув на меня. Он жестом предложил мне занять кресло напротив него. — Расскажите мне об этом человеке, вашем друге Джоне Партридже. Как вы познакомились?
— Наша дружба завязалась восемь лет назад. Он появился в мастерской Чиппендейла через неделю после того, как я поступил туда учеником.
Я принялся, поначалу нехотя, излагать историю его жизни, которая тесно переплеталась с моей собственной. Повествуя, я старался подавить в себе смятение и изгнать из памяти обезображенный облик друга. Я описал беднягу Партриджа, каким увидел его в день знакомства: жалкое существо, тощий хилый паренек с пронизывающим взглядом синих глаз, всегда опущенных.
— Партридж был подкидыш, — сообщил я, силясь скрыть дрожь в голосе и сдержать слезы. — Младенцем его оставили на крыльце только что тогда построенного сиротского приюта, дабы его воспитали в милосердии достойным гражданином.
Я не добавил, что сам я, взращенный в далекой провинции, в ту пору пребывал в полном неведении относительно предрассудков, связанных с подобными учреждениями. Однако вскоре я узнал, что на их обитателях лежит печать позора. Подкидыши — это люди, которые были зачаты в грехе и, безымянные, брошены своими родителями, не желавшими или не имевшими возможности их воспитывать. Если бы не приют, эти дети погибли бы на улице. Приют спасал найденышей от горькой участи, но не предавал забвению постыдные обстоятельства их появления на свет, ибо они служили наглядным доказательством слабостей своих родителей.
— А что, многих ли подкидышей определяют в учение к краснодеревщикам? — внезапно перебил меня Уэстли. — Я думал, для них подыскивают более низкие занятия, в соответствии с их происхождением.
Его замечание было вполне уместно, но во мне всколыхнулся гнев. Какое право он имеет столь пренебрежительно отзываться о моем друге? Представители привилегированных сословий надежно защищены от превратностей городской жизни. Что они могут понимать?!
— Как вы верно подметили, большинство мальчиков-найденышей обучают гораздо менее престижным профессиям или определяют на морские суда. Учиться ремеслу у таких мастеров, как Чиппендейл, их направляют крайне редко, но, с другой стороны, Партридж был необычайно талантлив. — Голос мой звучал холодно и резко, хотя я старался не дерзить, понимая, что грубость не поможет бедняге Партриджу. Если я не буду сговорчив, мне не удастся выяснить, почему и как погиб мой друг. — Партридж рассказал мне, что его взяли в мастерскую благодаря хлопотам попечителя приюта, Уильяма Хогарта. Партриджа послали помогать ремесленникам, работавшим в новой приютской часовне, где он и обнаружил первые признаки своего исключительного дарования. Господин Хогарт обратился к господину Чиппендейлу, и тот согласился взять подкидыша в ученики.
— Какой великодушный человек ваш Чиппендейл, вы не находите?
— Да, весьма, — согласился я, по-прежнему подавляя в себе раздражение: поведение Уэстли вызывало у меня неприязнь. — Только ведь и господин Чиппендейл много выиграл от талантов Партриджа. — Не было смысла сообщать судье то, что сказал мне Партридж: наш хозяин взял его лишь потому, что надеялся заручиться благосклонностью высшего общества, в котором вращался Хогарт.
— И все же вы утверждаете, что этот подкидыш, которому гак повезло, был чем-то недоволен? Резонно было бы спросить, зачем делать добро человеку, который отвечает столь черной неблагодарностью? — фыркнул Уэстли. — Фоули, как вы считаете?