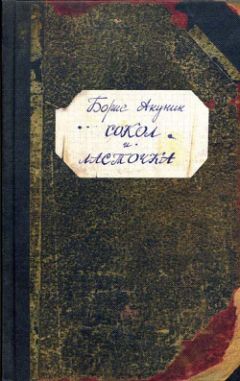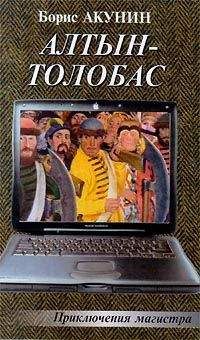Борис Акунин - Сокол и ласточка
Я обречен на вечное одиночество, но, отравленный общением с Учителем, я не могу жить один. Мне нужно смотреть кому-то в глаза, садиться на плечо, оберегать, помогать и наставлять. Всякий из моих моряков был уверен, что он — мой хозяин, и очень удивился бы, если б узнал истину.
А истина в том, что это они — и голландец, и англичанин, и француз — были моими питомцами. Наверное, примерно такие же чувства испытывает индийский слон по отношению к своему хозяину. Слоны живут намного дольше человека. Это великодушное могучее животное передают от отца к сыну, как главное семейное достояние. Если у слона есть чувство юмора (по моим наблюдениям, должно быть), лопоухому наверняка смешно, что маленькое недолговечное существо, которое его кормит и обслуживает, почитает себя «хозяином».
Мне не смешно, когда я думаю о моих подопечных. Мне грустно. Пускай питомец называет себя как хочет, лишь бы жил подольше и был счастлив — а я помогу в меру моих сил. Но я невезуч. Как уже было сказано, за 25 лет я сменил трех избранников. Второй из них меня предал и продал, третий прогнал, и о них я не жалею. Но первый, первый…
Я хотел его спасти, но не сумел. Я всегда чувствую приближение сильной бури, что заложено в меня природой. И я пытался втолковать моему бедному Ван Эйку, что нужно брать курс на зюйд-зюйд-ост, ставить все паруса и искать укрытие в заливе Давао — может быть мы бы успели.
«Святой Лука» был крепкой посудиной и отлично ходил под бейдевиндом. Но сколько я ни растопыривал крылья, изображая поднятый гафель, сколько ни указывал клювом на юго-юго-восток, сколько ни орал, подражая вою урагана, мой подопечный меня не понял. А когда увидел на краю неба маленькое черное пятнышко, было уже поздно…
О, если бы я был способен говорить! Все в моей жизни сложилось бы иначе. Злая насмешка судьбы! Любой дурак-какаду, жако или лори, даже паршивый волнистый попугайчик способен бессмысленно повторять слова и целые фразы. Но мой язык толст и неповоротлив, щеки слишком впалы, голосовые связки неэластичны. Я понимаю шесть языков, а читаю на восьми, но не способен выговорить даже самое простое слово вроде «да» или «нет».
Ритуал выбора питомца довольно труден. Этому, как и всему самому важному, в свое время меня научил Он, умевший постигать суть другого существа, на миг сливаясь с ним своей душой. Для этого необходимо хотя бы секундное замыкание в единую кровоточную и энергетическую систему. В зависимости от телесного устройства той или иной особи это делается по-разному. Например, мне с моими двадцатью дюймами роста, острыми когтями и большим клювом, если я хочу соединиться с человеком в одно целое, полагается действовать вот как.
Нужно сесть избраннику спереди на левое плечо и немножко сползти по его груди, что происходит естественным образом, в силу гравитации; мои когти при этом сквозь одежду слегка пронзают человеку кожу в области сердца — необходима хотя бы одна капелька крови; одновременно я должен тюкнуть объект моего вожделения клювом в висок — тоже до крови. Тогда мое тело образует «нидзи», радугу, между его Инь и Ян, в результате чего два наши Ки сопереливаются.
На словах оно, может, и несложно, но попробуйте-ка проделать такое на практике. Человек может мне ужасно нравиться, но вот понравится ли ему, если на него вдруг накинется большая птица, оцарапает когтями да еще клюнет в висок? Добиться успеха здесь так же нелегко, как вызвать немедленное ответное чувство в девушке, в которую влюбился с первого взгляда.
В Нагасаки, когда я решил покончить с одиночеством и взять себе питомца, я остановил свой выбор на странно одетом человеке с желтыми волосами и круглыми пазами. Он был непохож на нормальных людей (в ту пору я считал, что нормальные люди непременно узкоглазы и черноволосы), и поэтому я сразу ощутил что-то вроде родственного чувства. К тому же он так мечтательно смотрел на закат! То был плотник с голландского корабля — в самом деле, очень хороший человек с добрым, чувствительным сердцем. Но он испугался и сбросил меня со своей груди. Сопереливания душ не произошло. Не сложилось и с двумя другими моряками, так что в конце концов, уже твердо вознамерившись оставить японские берега, я сел на грудь капитана, который лежал на палубе мертвецки пьяный. Безо всяких помех осуществил я обряд, прочел всю немудрящую жизнь Якоба Ван Эйка и принял ее, как свою.
С лейтенантом Бестом я поступил честнее. Он, как все заядлые картежники, был очень суеверен.
Повстречав среди волн невесть откуда взявшуюся «райскую птицу», он принял это за доброе предзнаменование и безропотно стерпел маленькое кровопускание (в общем-то, не слишком болезненное — я стараюсь действовать клювом и когтями как можно деликатней). Бест только вскрикнул: «Саbrоn!» Он всегда бранился только по-испански, находя, что это наречие но своей звучности лучше всего способно передать полноту чувств. Слово «каброн», вскоре ставшее моей кличкой, одно из самых обидных в этом выразительном языке. Буквально оно означает «козел», то есть некто с рогами, рогоносец. За такое оскорбление в моряцкой таверне сразу бьют кружкой по голове. Лейтенант придумал фокус, который казался ему ужасно остроумным: выкрикивать обидное слово будет не он, а его попугай. Все шесть лет совместной жизни, с упрямством истинного сомерсетца, Бест мучил меня этим «каброном». Но, как я ни старался, угодить ему не смог.
С штурманом Ожье, выигравшим меня в «ландскнехт», вышло совсем глупо. Я и не собирался брать в питомцы этого мозгляка с хитрыми глазками. Он гонялся за мной по каюте, схватил, и я, обороняясь, совершенно случайно вцепился в его грудь когтями, а клювом залепил в область уха. И всё, пропал. Вмиг увидел несчастное, сиротское детство бретонского мальчишки, ощутил его бесконечное одиночество и внутреннее отчаяние. Сердце мое дрогнуло, я решил «это судьба», и взял штурмана под свою опеку. Хорошо ли, худо ли (в основном худо) я провел с ним долгие одиннадцать лет. Стыдное время. Ожье был паршивым навигатором, но очень ловким шулером. Именно этим зарабатывал он на жизнь. Наедине с самим собой все тасовал и раскладывал колоду, тренировал память и пальцы. Как-то раз, от глупой жалости, я дал ему понять, что различаю карты и могу скрасить его одинокий досуг. Что за ужасная ошибка! Он заставил меня стать своим подельником. Я должен был садиться за спиной его партнеров и знаками показывать, сильные ли у них карты. Лучше всего мы зарабатывали на испанской игре, которая называется «пне». Отсюда и возникло мое имя (прежде того Ожье меня вообще никак не называл).
— Трюк, вот это трюк… — говаривал он в критический момент игры как бы в задумчивости, и я должен был чесать левое крыло либо правое, поднимать лапу и так далее. Нечего и говорить, что мою душу при этом, как говорят карибские индейцы, обжигала медуза.
Две недели назад всё кончилось. В портовом городе Сен-Мало, в кабаке, мой питомец затеял вчистую обобрать наивного юнца, приехавшего, чтобы поступить на морскую службу. Ожье, как водится, сначала немного проиграл ему, потом вынудил поставить на кон все деньги вместе с шпагой, золотым медальоном и даже сапогами. Это у штурмана называлось «ощипать гуся до пупырышков». Но я не захотел участвовать в подлости, демонстративно отвернулся (забыв, что на нашем тайном языке это означает «слабая карта»), и мой питомец продулся в прах.
После этого — кошмарное воспоминание — он с криком гонялся за мной, размахивая саблей. Мое бедное тело разрубить он не смог, но навеки рассек соединяющую нас невидимую нить.
Пятнадцать дней я был совсем один, в холодном северном городе, где беспрестанно дуют злые ветры. Моя жизнь каждодневно подвергалась опасности, я дрался с наглыми чайками, отчаянно мерз и размышлял о своей нескладной, горькой судьбе.
Ведь я немолод. 52 года для попугая старость. Если б не Дар Полной Жизни, я уже начал бы дряхлеть. Стужа и недоедания в два счета положили бы конец моим страданиям. «Есть ли что-нибудь лучше смерти?» — сказал Сократ. Так не оборвать ли мне самому чугунную цепь своего существования? Не взлететь ли туда, где меня — я верю — ожидает Учитель и где не имеет значения, попугай ты или человек?
Вот какие мысли одолевали меня утром 25 февраля, когда я, нахохлившись, сидел на зубце стены и с тоской смотрел на обрыдший город. Мерзкое ненасытное брюхо тянуло меня на поиск очередной кучи отбросов. Чувство достоинства побуждало к гамлетовскому выбору: быть или не быть — длить свое жалкое существование либо же отказаться от унизительного шныряния с помойки на помойку и подохнуть. Искать нового питомца я не хотел. Я разочаровался в людях.
Крепостная стена окружала неприступный город-скалу, соединенную с сушей узким перешейком, и была такой широкой, что по ее верхушке без труда могла бы проехать карета. Бухта, утыканная мачтами кораблей, располагалась с внешней стороны укреплений, я же сидел с внутренней, в тени дозорной башенки, чтоб не мозолить глаза зевакам своим необычным для этих чаечно-гагарных краев опереньем. За спиной, стуча каблуками, ходили люди: моряки, разносчики, торговки, попрошайки — обычный портовый люд.