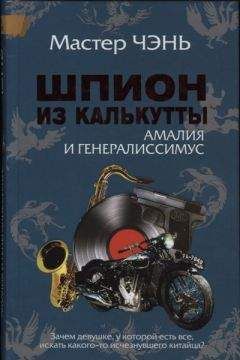Амалия и Белое видение (с иллюстрациями) - Чэнь Мастер
– Он? Уайтмен, Джеймс Уайтмен, сорок два года. Заведующий архивом, – странным голосом сказал Тео.
Наши глаза встретились, и я кивнула. Очень интересный глава архива, путешествующий по каменоломням султаната Кедах. Он искал там, среди камней, потерявшиеся архивные записи вердиктов коронера за прошлый год? Не говоря об имени – анонимнее бывает только Джонсон и Джексон. В общем, специальное отделение полиции.
Значит, Элистер Макларен и точно шпион, родился в моей голове неопровержимый вывод.
Чтобы скрыть смущение, я взяла со стола еще одну гранку, с крупным шрифтом. Передовая, конечно, которую писал, как и было положено по должности, лично Джордж Биланкин.
Хм, так у нас же завтра некая дата – 12 августа. День, когда Фрэнсис Лайт впервые поднял британский флаг над этим – заросшим тогда глухим лесом – островом, принадлежавшим до того момента султану Кедаха. Дата не очень круглая, 143 года назад, но все же хороший повод сказать несколько умных слов. Например: «При той разности рас, которые привлекала страна, возможно, это был счастливый случай, что именно Британия, а не другая Держава, всадила в землю свой флагшток в Пенанге, так как никто другой бы не достиг большего в объединении незнакомых друг другу народов, которым надлежало отныне жить вместе».
– Есть комментарии? – чуть заносчиво поинтересовался голос у меня над ухом.
Я скосила глаз и увидела рядом с собой небольшой животик, на котором лежал неинтересный полосатый галстук. Подняла глаза выше и увидела круглые очки в роговой оправе и улыбку господина Биланкина.
– Комментариев – никаких, – бодро отозвалась я. – Есть совершенно постороннее соображение.
– Немедленно его сюда, ваше соображение, – отозвался главный редактор и устремил на меня сверху взгляд веселых глаз.
– Дело в том, господин Биланкин, – сказала я, – что год назад я участвовала в случайном разговоре насчет памятника Фрэнсису Лайту, которого так до сих пор и нет. А нет его потому, что не сохранилось лица этого человека. Видите ли, штат самого Лайта состоял сначала из одного, потом из пяти человек. Да и вообще европейцев на острове в первый год было всего четырнадцать. Два торговца, владелец таверны, корабельный плотник, э-э-э, как это – смолист, что ли, специалист по парусам, плантатор… Чуть позже, в 1801 году, некий Джон Браун был одновременно провостом, шерифом, тюремщиком, коронером и бейлифом. И это был важный человек, потому что на стройках каторжников из Индии было уже 180. Так вот, каторжники были, но ни одного врача, ни одного инженера – или художника.
Тут Биланкин, молча подвинув себе стул, сел со мной рядом и начал смотреть на меня как-то по-другому.
– И тогда, – продолжала я, – мой собеседник сказал: ну, хорошо, зато сохранились портреты сына великого человека – Уильяма Лайта. И еще бы им не сохраниться, ведь в 1836 году он создал другой город – Аделаиду. Наследственный гений, господин Биланкин. Отец начертил здесь первые четыре улицы – Бич-стрит, Питт-стрит, Чулия-стрит, ну, и Лайт-стрит. А сын, Уильям Лайт – то был первый генеральный сюрвейер Южной Австралии, и он считается автором дизайна одного из самых хорошо спланированных городов мира.
И почему бы, сказал мой собеседник, не взять лицо сына для памятника отцу – ведь какое-то сходство было?
– Великолепно, – перебил Биланкин и, как я понимаю, приготовился просить разрешения использовать эту идею в печати.
– Но тут возникло неожиданное соображение, – задумчиво продолжала я. – Вы слышали такое имя – Розеллс, Мартина Розеллс? Та португалка, с сиамской кровью, которая привела сюда корабли Лайта, принадлежавшие, кстати, калькуттскому торговому дому Журдена Салливэна и, извините, де Соза? У них с Лайтом было четверо детей, включая Уильяма, и неподалеку отсюда сохранился переулок – Мартина-лэйн, домиков в шесть.
Биланкин молчал. И я закончила:
– Так вот, если когда-нибудь здесь будет памятник Лайту, то многие, многие люди будут искать в нем черты Мартины Розеллс. Напишите об этом при случае, господин Биланкин.
Главный редактор поднялся, держа мокрую гранку на руке, как официант салфетку. Моргнул несколько раз, глядя на меня сверху:
– Де Соза. А не де Суза (тут я приготовилась ощериться). Ну, конечно. Простите меня, госпожа де Соза, мне следовало бы вас узнать – это вы главный администратор замечательного кабаре, вечер в котором мне пришлось вчера прервать так неожиданно. Благодарю за приглашение. Это преступление мне все испортило. Но каково же было мое удивление, когда мне сказали, что мои репортеры знали заранее какие-то подробности этого убийства, более того – знали от вас. Это правда? Какое отношение вы имеете к этой истории?
Вот тут я задумалась: а какое, на самом-то деле, я имею отношение к этой истории? Скорее, это она как-то упорно старается иметь отношение ко мне.
В общем, не то чтобы я прямо тогда, в редакции, предугадала, сколько раз еще мне будут задавать этот и другие неприятные вопросы. Но, видимо, что-то почувствовала. И ответила с чарующей улыбкой:
– Не большее, чем вы. Вы сидели тогда за столиком со Стайном и Джошуа, вот и я за пару дней до этого тоже имела приятный разговор с джентльменом из полиции. И решила принести пользу моему старому другу в вашей газете. И только.
– Да-да-да, – задумчиво сказал Биланкин и повторил: – Розеллс, Мартина Розеллс. Чем больше тут работаешь, тем больше понимаешь, что ничего простого в этих краях нет и не будет. Первым уроком для меня было, когда я назвал – просто назвал – имя Ганди в одной из первых своих передовых. И получил от местных индийцев шесть дюжин писем, в которых говорилось, что мне еще многое предстоит узнать в жизни, прежде чем получить моральное право хотя бы упоминать светлое имя Махатмы или, скажем, мыть его ноги. Заметьте, это я еще не критиковал его, а просто написал «Ганди»… Я вас покину, извините.
И с гранкой на руке он двинулся обратно в кабинет. А я, с грузом книг и журналов – обратно на раскаленную улицу, в многоголовую толпу.
… И только когда стемнело и птица куай закончила в моем саду свою вечернюю серенаду (куай, куай, куай – все выше тоном), торжествующая Мартина доложила: телефон, сеньора.
– Элистер, даже не думайте, что я настолько глупа, чтобы на вас сердиться. Я все знаю. Кроме одного: вы собираете чемодан?
Пауза, в течение которой я смотрела во тьму сада.
– Послезавтра, на «Таламбе», – ответил он наконец, и я совершенно не удивилась. – Нас держали на цыпочках весь прошлый вечер и весь сегодняшний день, хотя разговаривать с нами было не о чем. Полный хаос, по коридорам топают озверевшие инспекторы… А в итоге – домой. Жаль. Очень жаль.
– Вы вчера назвали меня птицей, Элистер…
– Исключительно в знак уважения и симпатии…
– Так вот, позвольте проявить птичье любопытство и спросить – факт убийства господина Уайтмена палочками для еды установлен уже официально?
Элистер снова замолчал, а потом усмехнулся:
– Я забыл, кто вы на самом деле… Иначе откуда бы вам знать его имя, которого, между прочим, не было в газетах… Но боюсь, что вас временно разжаловали из птиц, пока нет замены Уайтмену. Или, скажем так, вы – птица без гнезда. Как и я. Это объясняет ваше поведение. Ну, а я – разжалован до ранга пассажира «Таламбы». Нет, Амалия, установить что-то уже невозможно. Труп пролежал на солнце слишком долго, насекомые, змеи… нет, я не буду беспокоить вас подробностями. Его пришлось похоронить в Алор-Старе, заключение коронера – убит ударом тонкого тупого предмета в мозг, через глаз. И еще был второй удар, в висок, но тут не уверен даже коронер. Но мы с вами знаем, как было дело. А больше не знаем ничего. Хотя вы-то останетесь, и в итоге вам все будет известно.
– В итоге – да, – сказала я голосом Маты Хари. И сделала паузу, ожидая, ожидая…
– За мной приглашение потанцевать в мой отель. Я дал вам слово, – железным голосом сказал Элистер.
И я перевела дыхание.
– Кстати, Элистер – а что это за отель?
– «Раннимед», – сказал он без энтузиазма. – И не думайте, что мы купаемся в роскоши. Тут есть одно крыло, которое использует для своих гостей ваша полиция… Не очень роскошное, но ничего.