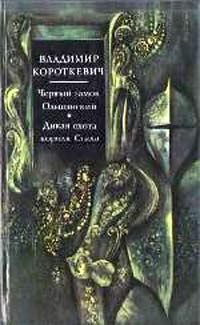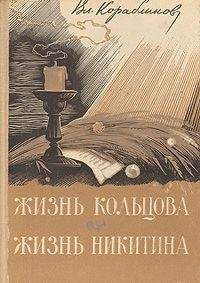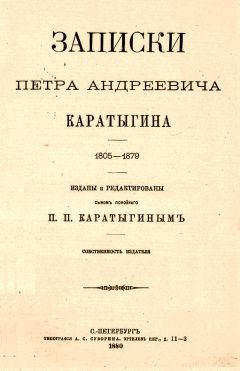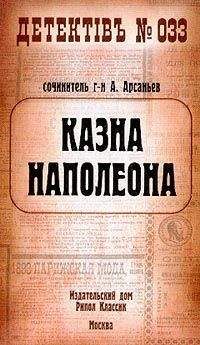Владимир КОРОТКЕВИЧ - Черный замок Ольшанский
– Что же, – сказал Клепча, – всю Белоруссию вверх ногами перевернешь? Всех родственников перетрясешь? А те, может, из Эстонии?
– А мы и эстонских перетрясем, – сказал Щука. – Кстати, возьми прижизненное фото да поезди по пригородам. Может, кто-нибудь видел этого человека в компании с кем-то знакомым… накануне.
– А по тому фото? На берегу?
– По тому фото люди подумают, что показываешь актера Овсянникова[29] в роли тени отца Гамлета. Думать надо, хлопец.
Когда машины снова мчались по плиточному шоссе аллеей трехсотлетних могучих ясеней и вязов, Щука вдруг спросил:
– А что за книга, о которой ты говорил?
Я рассказал.
– Показать не можешь? Ага, тогда заедем к тебе домой. А потом… может, с нами на его квартиру съездишь?
– Да… Слушай, он ведь тревожился! Он говорил о какой-то связи с тем старинным преступлением!
– Это могли быть просто нервы. И потом, если бы мы занимались всеми преступлениями, содеянными за миллион лет с того времени, как обезьяна стала человеком, то кому было бы разбираться, кто украл у товарища Раткевича авторучку?
Его грубоватый тон, как ни странно, немного успокаивал меня.
– Так что старинным преступлением займись ты. Ты знаток, историк, тебе и карты в руки. А найдешь что-нибудь любопытное для сегодняшнего дня – тут уже мы всегда к твоим услугам.
– Ты вроде грошового критика, которому подавай сочинения только на злобу дня. А для этого газеты есть.
Мы заехали ко мне, взяли в портфель книгу и покатили к парниковому хозяйству.
И снова была аллея из наполовину уничтоженных лип, и старый дом, и барочные ворота кладбища. На дне спущенных прудов накопилась мутная весенняя вода. А во мне все еще жила робкая надежда, что вот позвоним, вот в глубине квартиры прозвучат шаги, щелкнет замок и заспанный Марьян скажет:
– А знаешь, что считалось у наших предков дурным тоном?
Но никто не выходил на звонок. Мы стояли и долго ожидали, и я слышал, как Цензор Феоктистов, вредная вахтерша, отвечает Клепче:
– Два дня назад послышалось – замок звякнул. Гляжу – человек. Но дверь закрыта. Спрашивает: «Что, там никого нет, бабуся?»
– Какой он хоть с виду, человек этот?
– А такой… ну… вроде немного городской, а вроде и не городской.
Наконец, привели понятых, открыли дверь. И надежда моя сразу улетучилась, а предчувствие беды превратилось в уверенность.
Эльма неподвижно лежала на полу. Здоровенный тигровый Эдгар, увидев меня, жалко вильнул задом. Глаза у него были несчастные и слезились, и он сразу закрыл их. Даже не поднялся навстречу.
В прихожей стоял какой-то резкий и тошнотный запах.
– Он не ездил ни в какое Вильно, – уверенно сказал я Щуке, – иначе бы отвел собак. Он и не думал уезжать больше чем на один день.
– Собак усыпили, – сказал Щука. – В тот же день усыпили. Видишь, остатки еды. И вода не выпита. Но как могли усыпить на столько дней?
– Может, что-то искали? Если за один день не нашли, могли повторить дозу.
– Но это воспитанные псы. Они ничего не возьмут из чужих рук. Только у Марьяна… и у меня.
– Кроме воздуха, которого ни из чьих рук брать не надо. – Щука указал на замочную скважину.
– Я знаю, что они искали. – И я достал из портфеля книгу.
– Что же, давай присядем здесь, – Щука указал на длинный ящик для обуви, – чтоб не мешать. Займитесь квартирой, лейтенант.
Мы сели на ящик и начали внимательно листать старый том. Но что можно было заметить за такое короткое время, если я целыми днями просиживал над ним?
– Возьми, – сказал наконец Щука, – думай и дальше. Это не нашего ума дела. Возможно, какая-то сложная головоломка. А возможно, и все просто. Ценность книги большая?
– Да.
– Так, может, и нет никакой загадки?
– Хочешь сказать, что цена человеческой жизни не выше цены этого хлама?
– Есть такие, с твоего позволения, люди, для которых жизнь ближнего не стоит и гроша.
– Зайдите, – сказал Клепча, – посмотрите своим глазом, чего не хватает в квартире?
Я зашел. Обыск, по-видимому, уже был окончен. Лишь один из группы еще перебирал бумаги в ящике стола. По-прежнему летали под потолком ангелы, по-прежнему Юрий попирал ногой змея. Только Марьяна не было. И больше не будет.
– Не хватает двух картин, – глухо сказал я.
– Тогда, значит, о книге и разговора нет, – сказал Клепча. – Может, и в самом деле барыги-спекулянты. Не выгорело, и все. Такая история, рассказывали, была недавно в Москве, на улице Качалова. Уговаривали-уговаривали продать – не продал, ну и все окончилось на этом… А вот картины – это интереснее.
– Товарищ полковник… – Человек в штатском, что копался в ящике стола, протягивал Щуке лист бумаги. – Это, пожалуй, интереснее картин.
Щука прочитал и передал бумагу Клепче. Тот пробежал глазами, свистнул и посмотрел на меня. Затем протянул лист мне. А когда я, в свою очередь, прочитал то, что там было написано, у меня заняло дух.
Это было по всей форме составленное и заверенное у нотариуса завещание, по которому гражданин Марьян Пташинский на случай внезапной смерти завещал все свое имущество другу, гражданину Антону Космичу, с условием, чтобы упомянутый Космич содержал бывшую жену вышеупомянутого Пташинского на всем протяжении ее болезни.
– Что у нее? – спросил Щука.
– Рак, – ответил я, – лежит в Гомеле.
– Значит, иной смысл этого «на протяжении болезни» – до смерти, – сказал Клепча.
– Ну, зачем же так, – возразил Щука. – Позвоните, Клепча, к нам, пусть наведут в Гомеле справки о состоянии здоровья… как ее?.. О состоянии здоровья Юлии Пташинской.
Не успел лейтенант положить трубку, как в дверь позвонили, и сердце мое снова сжалось от маловероятной, внезапной надежды. А потом тупо заболело, потому что это был всего лишь тот человек с чемоданчиком, которого я видел на берегу Романи. Я догадался, что это, должно быть, медицинский эксперт.
– Это вы, Егор Опанасович? – удивился Щука.
– Хотел, чтобы быстрее узнали результаты вскрытия, а мне по дороге, ну и…
– Что же обнаружено?
– Никаких следов насильственной смерти, – сказал низенький румяный лекарь.
– А кто же его, – ангел божий?
– Возможно. У него два микро – и один инфаркт. Сердце сдало – вот причина. Наверное, стоял в лодке и тут случилось. Упал в воду и захлебнулся.
– Почему же он поехал один?! – в отчаянии крикнул я.
– Его дело, – буркнул Клепча.
– Ясно, что его. И никогда, никогда он не берегся! Никогда!
– Какие картины пропали? – спросил Щука.
– Вот это и подозрительно, – ответил я. – Если бы крали, то взяли бы другие. Эту. Эту. Ту. Им цены нет. А те две – совершеннейшая чепуха, только что не новые. «Христос в Эммаусе» немецкой школы конца прошлого века и английской – «Кромвель у могильной ямы Карла I». Эту он в Киеве в ГУМе купил сразу после войны.
– Помню я эту картину, – вдруг сказал Щука, – долго она у них на стене висела. Немного поврежденная внизу. Кромвель в паланкине сидит.
Я вытаращил глаза:
– Ну и память!
– Память профессиональная.
– Точно. Порвана была. Он ее сам и чинил, ремонтировал. Огромные дуры, яркие. «Кромвель» этот «под Рембрандта наддает». Он эти картины не ценил.
– Может, не разобрались? – спросил врач. – Увидели, что большие, в глаза бросаются – ну и взяли.
– А почему тогда не взяли еще что-нибудь? – спросил вдруг человек в штатском. – Вот деньги. И много что-то денег.
Денег было восемьсот двадцать рублей.
– Может, спешили? Не знали? – спросил Клепча.
– Эти барыги по искусству, – сказал я, – хотя бы кое-что да понимают. Не взяли бы они этих картин. Может, тут совсем другое: не ценил и поэтому продал. Ему для жены были нужны деньги.
– Резонно, – сказал Щука, – пускай наши поищут по антиквариатам.
…За окном уже лежали сумерки, и мы собирались идти, когда зазвонил телефон. Клепча снял трубку.
– Да… Да… Спасибо.
– Что такое? – спросил Щука.
– Звонили от нас. Юлия Пташинская умерла пять дней тому назад…
Вид у него был на удивление многозначительный. И он смотрел на меня.
– …и как раз в предполагаемый день смерти мужа. Любопы-ы-тно. Может, и картины… для отвода глаз.
Кровь бросилась мне в лицо. Только теперь я понял, как можно расценить все это нелепое, страшное стечение обстоятельств.
– Послушайте, Клепча, не будьте быдлом!
– Ну-ну.
– Он прав, Якуб, – сказал Щука. – Это был его самый лучший друг.
– Единственный и навсегда, – глухо сказал я. – И я до конца дней работал бы только за хлеб, чтобы отвоевать для него хотя бы год жизни. А если вы считаете меня таким чудовищем, которое может убить брата за полушку, то знайте: все, что здесь есть после смерти Марьяна, должно быть передано музею на его родине.