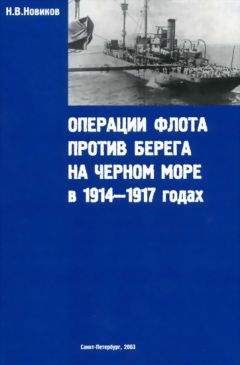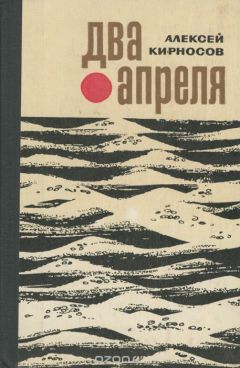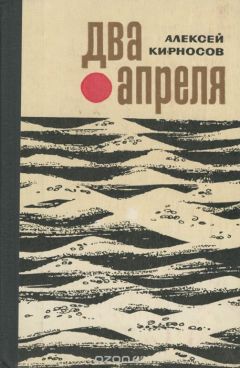Константин Тарасов - Отставка штабс-капитана, или В час Стрельца
Я стал думать, случайно нас пригласили в беседку или нарочно? Меня и Шульмана привел туда Михал, остальных — Людвига. Лебеди, ряска, беседка место, конечно, красивое, не грешно похвалиться. Однако не здесь все завязалось. Мы с Васильковым стояли у корчмы, мимо нас проехали Володковичи — один мрачнее другого. Это было в шестом часу. А спустя пять минут Володкович радушно приглашает офицеров в усадьбу… Он покоряет любезностью командира, панна Людвига очаровательно улыбается, Михал… ну, что, Михал… тоже, верно, потеплел… А с чего бы им радоваться?.. Итак, вот что важно, что все в усадьбе узнали — прибудут офицеры, будет ужин, гуляние по парку… Нас стали ждать, о нас стали думать, на кухне щипали уток и кур, в котел кинули раков, приготовили виват…
Господина Володковича я нашел в аллее, где росли обнявшиеся ели. Я сказал необходимую фразу о сочувствии офицеров батареи горю его семьи. Несчастный отец принял ее наклоном головы.
Минуту мы молчали. Я испытывал неудобство задавать любопытные мне вопросы. Он все знает сам, думал я. Что ему от моих слов, от моего вмешательства в семейную их беду. Никакие разговоры, никакие меры сына не воскресят. Друзья сына по отряду должны быть ему неприятны; я как офицер армии, подавляющей восстание, неприятен ему вдвойне. Да он и не рискнет со мной, незнакомым человеком, откровенничать. Однако, в противоположность таким здравым рассуждениям, я сказал:
— Господин Володкович, вчера нами был схвачен мятежник — знакомый вашего сына, который потрясенно переживал его трагическую смерть. Ночью сегодняшней он бежал.
Володкович недоуменно посмотрел на меня, и я кратко изложил ему свои сведения, не решившись, однако, сказать, что подозреваю возможность убийства.
Господин Володкович долго вглядывался мне в глаза и наконец предложил:
— Салитесь!.. Я не знаю, что вы за человек, — сказал он. — Вы владеете знаниями, передача которых властям может окончиться для нас Пермью или Тобольском. Поэтому я вас прошу войти в мое положение. Все, что я мог сделать для Северина, я сделал: вырастил, воспитал, отправил в столичный университет. И там он жил не в нужде, поверьте. Будь он со мной, я следил бы и за его духовным становлением, удерживая от крайностей, от дерзких мыслей, но там на него влияло землячество: вольнодумные беседы, желание изменить образ жизни людей — это болезнь студентов; на пять лет они вместе, они равны, им кажется — все могут быть равны. Я надеюсь, вы поймете, что над такими процессами отец, живущий в медвежьем углу, не властен.
Я молча согласился.
— А как зимою началось восстание, — продолжал Володкович, — и нет, уже позже, в марте, Северин прислал письмо. "Назревают великие события, — писал в письме, — считаю, отец, что и Михал должен откликнуться. Благослови его, и пусть приезжает в Вильно. И денег ему следует иметь рублей триста на необходимые покупки". Это значит, — пояснил Володкович, — на оружие. Я и Михала не пустил, да он и сам был против такой поездки, слава богу, у него иные взгляды, и денег не послал. А послал по указанному адресу просьбу оставить гиблое дело, вернуться в университет, учиться, служить Родине мирным трудом. И с того дня по вчерашний от него нам ни ответа, ни привета не поступало.
— Сколько бессонных ночей было в эти месяцы, — сказал Володкович. Гадаешь в темноте: жив? убит? в каземате сидит? обнимемся ли когда вновь? Ну вот, два дня назад и обнялись. Отвоевался мой сынок, добрел до родного дома, чтобы на моих глазах застрелиться. Уж лучше бы погиб в бою. Хоть и плохо так говорить, но все было бы лучше. Говорит: "Я уеду, отец, мне деньги нужны". Я дал Северину тысячу рублей. Мы попрощались с ним около семи часов. Зачем стрелял в себя? Где ходил три часа?
— А вот вы подымались звать Северина? — спросил я.
— Никуда я не подымался, — ответил Володкович. — Ни к чему. Я своими глазами видел, как он из усадьбы ушел. Это для Лужина говорилось. Я не понимаю, и как мне понять, что его толкнуло…
— А деньги?
— Что деньги? — переспросил Володкович.
— Вы дали ему деньги? Где они?
— Деньги! — тоскливо сказал Володкович. — Что мне в них? Но вы правы, надо сказать, пусть посмотрят.
— Вот мы с вами поговорили, — сказал Володкович, — мне стало легче. Странно, в тяжкую минуту хочется говорить, другого человека приобщить к своему горю. И, право, легче, — повторил Володкович. — Вы, верно, добрый человек, и я вас прошу, ведь у меня еще двое детей…
— Не беспокойтесь, — ответил я. — О нашем разговоре никто не узнает.
XXI
На втором этаже было четыре комнаты: две — окнами в парк, две — на главный двор. Напротив лестницы в простенке между дверями висела картина в позолоченном багете, изображавшая бой шляхты с татарами. Всем татарам волею художника была придана отвратительная внешность, противники их, мало того что были прекрасны, все отличались богатырской силой — разваливали басурман надвое. Впрочем, и среди шляхты трое или четверо упали с коней, пронзенные стрелами, и в красивых позах умирали. Я вспомнил нашу кадетскую столовую, где за два года изучил до малейших деталей сражения наших войск с французами, шведами и освобождение князем Пожарским Москвы. Под воздействием трех этих картин я долгое время находился в уверенности, что войска других стран намного отличаются в худшую сторону от наших ростом, силой, благообразием и храбростью. Но будучи в пятьдесят девятом году в Париже, я обнаружил, разглядывая батальные полотна, что отталкивающим обликом и слабостью духа художник наделил наши полки, французов же наоборот представил отменными удальцами. "Такова сила искусства, — объяснил мне, потешаясь над моим возмущением, хозяин картин. — Кисть художника служит национальной гордости. Желаемое выдается за действительное".
Какое-то время я постоял у патриотического произведения, сравнивая татарское и шляхетское оружие, а в особенности конскую сбрую, показанную с хорошим знанием.
В стороне проскрипела дверь. Я обернулся и увидел Михала. Мы поздоровались.
— Я к вам, — сказал я и повторил то, что сказал ранее господину Володковичу.
Молодой человек пришел в сильный испуг.
— Господин штабс-капитан, — пролепетал он, — я вас молю, не используйте это нам во вред. И почему, почему мы должны отвечать за чужие дела?.. Я не беспокоюсь о себе, но отец, Людвига…
— Вы излишне боитесь, — сказал я. — И не надо об этом. А вы вот что скажите: сколько денег дал Северину ваш отец?
— Отец не совещался с нами насчет суммы, — ответил Михал. — Вернее всего, немного.
— Видите ли, Михал, — сказал я. — Если Северин взял деньги, то он не должен был стреляться, а уж коли застрелился, то и деньги целы.
— Какое это имеет значение? — спросил Михал. — Я не понимаю.
— Огромное. Мне не хотелось говорить вашему отцу — ему и без того тяжело, но вам я могу сказать. Вот мое рассуждение: отец дал деньги Северин покончил с собой — денег при нем нет — значит, их некто взял…
— Слуги? — сказал Михал. — Нет. При всем множестве недостатков наши слуги — честный народ. Но это легко проверить.
— Желательно проверить. Если денег в одежде Северина нет, то следует думать, что ваш брат убит. И второе. Как получилось, что вы, назначив свидание на Шведском холме, забылись явиться?
— Вам и это известно, — вздохнул Михал. — Ну что ж, я вам отвечу. Утром пришли двое мужчин, представились как друзья Северина и завели речь о деньгах. А тут Лужин меня зовет. Вот и условились попозже встретиться. А потом мне стоило больших просьб выклянчить у отца триста рублей. В связи с этим и опаздывал. Приезжаю, гляжу, человека хоронят — того, что утром приходил. А второго, пристав сказал, живым схватили…
Михал замолчал, услышав шаги на лестнице. Появился слуга и сказал:
— Паныч, вас зовет отец.
— Обождите меня, — попросил Михал. — Побудьте здесь, вот моя комната пройдите. Я скоро вернусь.
Еще слышался перестук его каблуков по ступеням, как отворилась дверь, возле которой мы беседовали, и на этаж вышла Людвига.
— Я слышала ваш разговор, — сказала она. — О, не подумайте, что я подслушивала, это произошло случайно. Он всегда был равнодушен к Северину. Они и денег пожалели. Им бесполезно говорить…
Ну, влип, с досадой подумал я.
— Мой брат боролся против вас, — говорила Людвига. — Я за него молилась, я просила молиться ксендза. В этом доме только мы были друзьями. Остались друзьями навек! Я не верю, что он ушел. Я не могу надеть траур. Господи, я готова отдать жизнь, чтобы хоть год, хоть один день побыть вместе… Еще день назад он был здесь, и было весело, и наш дом казался мне прелестным. А сейчас — место скорби… Отзвуки шагов брата… последних шагов… и страстное ожидание увидеть его тень… хотя бы тень… Вчера взяла стакан и вижу на дне отражение — Северин… Нам следовало остановить его, удержать, оставить дома, упросить, а получилось, что мы безразличны… это обидно для страдающего сердца… Ангел-защитник спасал брата в бою пуля обходила его. Но и что? Легко ли ему было? Надо уходить, убегать на чужбину, в безызвестность, из тех мест, где прошло детство и где нам, несмелым, негордым, благоприятствует судьба… Мы остаемся благоденствовать, а он должен мыкаться по свету, не имея крова и очага… Об этом не говорили — это чувствовалось, окутывало всех, как туман; дышалось тяжело, все были печальны… Он спешил уйти, потому что хотел остаться… Да, теперь я это понимаю… Но поздно… Вы сказали — Северин убит. Молчите! Молчите! — остановила меня Людвига, видя мое желание возразить. — Брат был волевой, деятельный, серьезный, он был герой. Ночами я не смыкаю глаз. Вы можете думать, что я не владею собой, что мной движет несчастье, нервное потрясение, женская чувствительность… (Она не ошибалась, я думал именно так.) Нет, нет, только боль и любовь. Вы что-то знаете, чего мы не знаем. Скажите, кто, кто отнял его у нас?