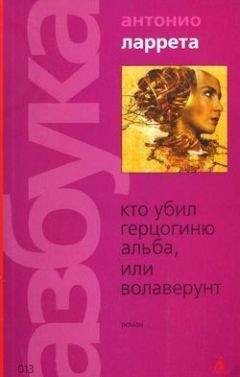Антонио Ларрета - Кто убил герцогиню Альба или Волаверунт
Прошли годы. Утихли бури. Я хочу сказать, я смирился с тем, что оказался не более чем коротким капризом в ее жизни. Я!.. Который хотел быть единственным… и дошел до такого нахальства — или это просто наивность? — что написал свое имя вместе с ее именем на обручальных кольцах — на портрете, и потом не знал, что с ним делать… И будто этого было мало — сделал еще надпись у ее ног, на песке. Вы, должно быть, ее видели: «Только Гойя», только я, бог ты мой, какая самонадеянность, какая претензия с моей стороны… И какой удар, когда я упал с облаков. Но в течение многих лет я хранил этот портрет. Да и что вы хотите? Я смотрел на него, и моя мечта оживала, она словно бы обретала плоть в этих кольцах, в надписи на песке. А бедная герцогиня была уже только этим… песком… была прахом[59].
Прошли годы. И вот мы в июле 1802 года. Мы уже были просто хорошими друзьями, не больше. Не осталось и тени — не говорю уже о любви, — даже тени взаимных упреков и обид. В свое время она никак не могла понять — а я тоже не мог ей объяснить, — не было ли злым умыслом с моей стороны так часто и так неверно изображать ее в моих «Капричос»; много раз я вкладывал в них изрядную долю иронии и, признаюсь, крупицы обиды… Может быть, тогда и началось ее отдаление. И если так оно и было, мне не в чем ее обвинить. Мы стали видеться реже. Уже не встречались, как раньше, в театрах, на корриде, на ночных празднествах. Пошли слухи, что она увлеклась политикой и зачастила в дом принца Астурийского. Она вошла в эту шайку, противопоставившую себя вам и королеве, не так ли, дон Мануэль? Я никогда раньше не говорил с ней о делах правительства, да мне никогда и не казалось, что она интересуется ими. Но тут все начали говорить, что она изменилась.
Однажды я узнал, что она решила построить себе новое жилище и оставить тот маленький, но красивый и уютный дворец Монклоа, в котором я за несколько лет до этого писал ее. И по мере того, как огромное сооружение поднималось в садах Хуана Эрнандеса[60], они теряли всю свою привлекательность как излюбленное место народных гуляний. Что-то странное творилось с герцогиней. Необычным было ее безразличие к той обиде, которую она наносила мадридцам, дав полную волю своей прихоти. Ведь она всегда была такой щедрой, такой простой и совершенно равнодушной к соблазнам власти. И тем не менее тут она пошла на это. Это было как вызов. Словно она говорила народу: если вы меня любите, то докажите свою любовь — терпите мои капризы.
И вот она позвала меня в свой новый дом. Сады уже были окружены решеткой, закрывавшей публике. проход, и с Пасео еще доносились протестующие голоса людей, возмущенных такой беспардонной узурпацией. Внутри строящегося дворца, окруженная целой армией архитекторов, ремесленников, рабочих, она казалась главнокомандующим, заканчивающим приготовления к битве, — бледная, возбужденная, встревоженная, не знаю, понимаете ли вы меня, — будто в этом и заключалась вся ее жизнь. Вся недолгая жизнь, что у нее еще оставалась… В этот день она показала мне салоны и галереи, обратила мое внимание на стены и потолки, на огромную парадную лестницу, которую мы вспоминали вчера в театре, и сказала: «Фанчо, все это тебе придется расписать — стены и панели, фризы и драпировки, потому что мой дворец должен стать самым великолепным в Европе, прекраснее, чем дворец императрицы Екатерины в Санкт-Петербурге, и ты своей росписью обретешь здесь бессмертие». Ее глаза сверкали, голос срывался; подобно сивилле, она вытянула руку, она была вся огонь, и однако это было не пылом юности, а чрезмерным, мучительным возбуждением, звенящим — позвольте мне использовать сравнение художника, — звенящим возбуждением какого-то металлического цвета, которое наполнило меня страхом, потому что оно было несвойственно ее натуре… Человек противится тех, кого он любит, разве не так? Она изменилась, и не к лучшему.
После этой встречи я стал часто бывать во дворце, чтобы определить, что в нем можно будет написать, и наконец, по ее настоянию, устроил небольшую мастерскую в одном из пустующих залов. Я перевез туда подрамники и краски, столы и мольберты; казначей, дон Антонио, прислал мне столько свечей, сколько я пожелал. Я приступил к работе. Сделал несколько небольших набросков темперой на темы, которые мы согласовали; и здесь меня тоже подстерегала неожиданность. Желая сделать ей приятное, я предложил написать сцены из народной жизни, сюжеты того Мадрида комедиантов, тореро и махо, с которыми она так любила общаться раньше, но она изменилась и в этом; в конце концов, к моему сожалению, мы остановились на эпизодах и героях мифологии, заменив мах и цветочниц наядами и нимфами. Стремясь, как всегда, доставить ей удовольствие, я стал обдумывать большую и сложную аллегорию, в которой женский образ — конечно же, это была она, хотя я и откладывал пока главный сюрприз: ее лицо, — появлялся как муза, нимфа или богиня сначала неясно, а потом все отчетливее вплоть до финального апофеоза на потолке большого зеркального зала в окружении четырех фигур, олицетворяющих Философию, Искусство, Поэзию и Любовь. А где-нибудь в углу я задумал незаметно пристроить свой автопортрет. Но все движение, весь ритм композиции заставят взгляд богини вновь и вновь обращаться к нему. То была тайная дань, которую я — в какой уже раз — хотел отдать бессмертию[61].
Я успел сделать лишь дюжину первых, еще неясных и непроработанных эскизов, как вдруг в начале лета она мне сообщила, что дворец будет закрыт: она откладывала все работы и отправлялась в Андалусию, несмотря на предупреждения о вспыхнувшей там эпидемии и советы не ехать туда в самый разгар жары[62].
Как я говорил вам вчера, дон Мануэль, если уж ей придет что-нибудь в голову, ее уже ничто не остановит. Так она и уехала, сказав мне на прощание: «Фанчо, во время моего отсутствия не пиши, лучше дай волю своему воображению. Пока твои наброски мне не нравятся. Сразу видно, что они сделаны по обязанности, а я хочу, чтобы ты писал от души, не обращая на меня внимания, вот тогда в твоей работе появится гений, как появился он, когда ты расписывал купол Святого Антония». Что мне оставалось делать? У меня никогда не возникало желания обращаться к мифологии, если только она не была моей собственной выдумкой. Но разве герцогиня допустила бы моих ведьм и монстров на потолок большого зала?[63]
(Говоря это, Гойя старается держаться спокойно и уверенно, но не может усидеть в кресле, то и дело вскакивает под разными предлогами — то зажечь свечу, то снова взять свой бокал, который только что поставил, то наполнить мой — и вновь садится в кресло, а иногда и на скамейку, что стоит против мольберта; он весь взмок под своей суконной курткой, его лохматые бакенбарды стали влажными, на кремовой рубашке явственно проступили пятна пота.)
Двадцать второго числа, днем, я работал над обнаженной женской натурой, той самой, что вы мне заказали, дон Мануэль, не помните? Я так и не знаю, всерьез или в шутку вы говорили, что моя картина стала главным украшением вашего галантного кабинета. Значит, он и вправду у вас был? Вы улыбаетесь. Хорошо, оставим это[64]. Я работал над «Обнаженной», точнее, искал для нее лицо, я пытался написать его по нескольким наброскам, хранившимся в моих папках, и если у вас хорошая память, вы должны вспомнить, что, когда неожиданно вошли, ставни на окнах были закрыты, а на мне была вот эта самая шляпа, что вы видите сейчас, с только что зажженными свечами, прикрепленными на ее полях. Впрочем, шляпа, возможно, была и другая, ведь даже самый прочный фетр вряд ли выдержит, не порвавшись, если на него в течение стольких лет капает горячее сало, как и мы сами не можем выдержать, не надорвавшись, горьких слез разочарования, что исторгает из нас жизнь, и черт бы побрал это сравнение! Вы пришли, чтобы поторопить меня с этим «ню» или просто посмотреть, как продвигается работа. Мы заспорили о лице, вам оно казалось слишком заурядным, я же считал, что оно и должно быть таким, что вся жизнь картины должна сосредоточиться на тоне тела, поэтому, чем нейтральнее будет лицо, тем лучше, но вы думали, точнее, дали мне понять, что думаете, будто невыразительностью лица я стремился скрыть, кому принадлежало это нагое тело, потому что мы с вами прекрасно знали, чье это тело, не правда ли, дон Мануэль?[65]
(О чем говорит Гойя? О том, что я знал это тело, или просто о том, что я догадался, чье оно? Этого я не знаю. И не пытаюсь узнать. Для меня это не так уж и важно.)
Картина, конечно, была дерзкой. Мы оба заботились о сохранении тайны: я писал ее в полном уединении, закрывшись в своей мастерской в самый разгар мадридского лета, когда визиты наносят лишь поздно вечером, а вы намеревались поместить ее в вашем необычном святилище, куда, как я понимаю, имели доступ только самые близкие вам люди. Однако превратности истории и неожиданные повороты политики переворошили всю Испанию, как нищий перерывает ведро с отбросами, и кое-кто уже докопался до нашей «Обнаженной», которую теперь называют махой, вы это знали? Она была нужна отнюдь не для того, чтобы ею восхищаться, но чтобы сделать из нее козла отпущения за известное падение нравов той эпохи и за падение ваших нравов, дон Мануэль, прежде всего за падение ваших нравов. Какая насмешка! Вы это знали? Не знали? Это было в 1814 году, уже при Фердинанде, когда только что восстановили инквизицию и процесс против вас был в самом разгаре. Все вынюхивая, вынюхивая, они докопались до двух мах и извлекли их на свет божий — одну обнаженную, другую одетую, а заодно набросились и на меня, за то что я написал для вас этих непристойных, как их теперь стали называть, мах. То же было с картинами Веласкеса, Тициана и Корреджо — видите, в какой прекрасной компании я оказался. Усердные инквизиторы востребовали картины у Главного хранителя арестованного имущества, а они в тот момент уже были переданы в его распоряжение, и погрузились в их созерцание, то есть, как говорилось, принялись их исследовать, пока не заключили, что содержание картин преступно. Несколько месяцев спустя, кажется в мае следующего года, меня вызвали в Святой трибунал — а если бы могли, вызвали бы туда и Веласкеса, и Тициана, и Корреджо, все мне было бы полегче, — я должен был опознать картины, признать их своими произведениями и дать объяснения, по какому поводу, по чьему заказу и с каким умыслом я их написал. Думаю, что я точно воспроизвел вопросы судей, дон Мануэль. И вообразите, как я, представ перед ликом сих святых мужей, ответствую, что эти картины заказал мне для своего главного кабинета сам Князь мира! Что мне еще оставалось делать, я был приперт к стенке и отбивался как мог, перспектива намечалась довольно неприятная, но тут пошел слух, что обнаженная женщина не какая-нибудь натурщица, а благородная дама. Рассказывали множество небылиц, но что удивительно, говорили и правду, и вот уже из уст в уста стали передавать ее имя, и дело кончилось тем, что один из допрашивающих меня каноников после бесконечных обиняков произнес его… Что тут началось — мне даже не дали рта раскрыть. Будто забились черные крылья, будто полчища летучих мышей вдруг заполнили зал аудиенции. Трибунал инквизиции прервал заседание. Через неделю дело положили под сукно, следствие прекратили, и с тех пор меня больше не беспокоили. Несомненно, кто-то вмешался, кто-то, имеющий большой авторитет, потому что, как вам хорошо известно, даже сам король не…[66] Но я увяз в частностях. Вы должны меня извинить. За годы вашего отсутствия так много перемен произошло в Испании, что всей оставшейся жизни не хватит на то, чтобы только прокомментировать их!