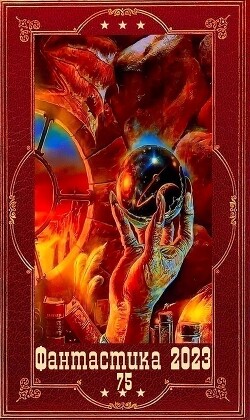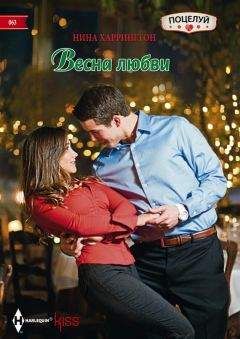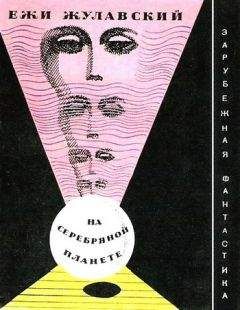Бес в серебряной ловушке - Ягольницер Нина
…Солнце входило в зенит, когда Марцино вновь постучался в кабинет полковника, на сей раз с видом самой ретивой исполнительности. Поклонившись, он вытянулся перед Орсо и отчеканил:
– Мой полковник! Задание ваше исполнил в точности и спешу вас успокоить: ничего дурного ва… эм… Мак-Рорк не учинял. Как и собирался, явился к госпиталю. Сначала в церковь вошел, постоял, глаза долу – все чин чином. Потом вышел, да к распятию. Там тоже помолился, подаяние в кружку опустил, а потом – вот чудак – под самый постамент бумажку подсунул.
Орсо усмехнулся:
– А это зачем?
Марцино же простодушно осклабился:
– Так поверье же, мой полковник. Дескать, если о ком очень скорбишь или тревожишься – надобно молитву о нем в каком-то святом месте оставить. Я слыхал, в Святой земле прямо в песок на Голгофе письмеца кладут и кресты нательные в том песке купают – они враз чудотворными делаются. Вот. А потом он крестным знаменьем себя осенил – да и назад пошел. Я вернулся – он уже тут.
Орсо помолчал, а потом кивнул с видом полной удовлетворенности:
– Великолепно, Марцино. Вы сняли с моей души немалый груз. – Встав, он порылся в секретере, вынул горсть серебра и отсчитал двенадцать монет: – Ваша награда и немного сверху. Дети и правда быстро растут. И, Марцино… Думаю, мне не нужно напоминать вам, что любая разговорчивость вам сильно повредит Мой… м-м-м… отпрыск попал под мою опеку в непростом возрасте. Мне совсем не легко заслужить его доверие. И я не советую вам стать человеком, который усложнит мне задачу. Вы свободны.
Солдат ушел, кланяясь и заверяя командира в своей вечной преданности. Услышав хлопок двери, Орсо расстегнул верхние пуговицы глухого дублета, потянулся и положил правый сапог на край стола.
– Ну, что ж, дорогой мой сын, – пробормотал он, – вот вы и попались.
Глава 32
Лаурино
Дом герцогини Фонци жил по заповедям доктора Бениньо, которые здесь соблюдали намного рачительнее заповедей Господних. С ним советовались по любому поводу, будь то меню к обеду, смена мясника, поставлявшего к герцогскому столу кур и барашков, запах воска для натирки мебели или случайный кашель лакея. Доктор поспевал повсюду, во все вникал, ни от чего не отмахивался, а его краткие отлучки становились для домочадцев герцогини сущим адом.
Но, пусть теперь шорох черного докторского джуббоне звучал для многих ушей, словно хлопанье крыльев ангела-хранителя, жизненный путь врача начинался куда менее внушительно.
Лауро Бениньо родился в крохотном городке неподалеку от Флоренции, в семье ростовщика, человека почтенного и состоятельного. Он был единственным и к тому же поздним ребенком своих родителей, обожаемым подарком небес, ни в чем не знавшим отказа.
Десять лет Лауро прожил в полной и безмятежной уверенности, что жизнь добра, люди ласковы, а миндальные пряники и новые башмаки едва ли не произрастают прямо в палисаднике среди матушкиных олеандров.
Лилиана Бениньо, хрупкая женщина с тихим голосом и слабым здоровьем, мечтала, как сын женится на одной из соседских дочек, и не простирала своих грез дальше шумной стайки внучат. Отец старательно прививал отпрыску привычку к порядку, методичности и неукоснительной заботе о репутации, которая составляет основу успеха любого настоящего купца. Нынешний день рос из вчерашнего, как справный побег из крепкого ствола, и Лауро никогда не сомневался в своем столь же лучезарном будущем.
Гроза разразилась неожиданно и за короткий срок в клочья разодрала шелковые декорации детского рая Лауро, обнажив неприглядное лицо реальности. Мать захворала чахоткой, сгубившей ее хрупкое тело с невероятной быстротой и свирепостью. Стоя на кладбище и держась за руку в одночасье состарившегося отца, опухший от слез Лауро осознавал не столько свою утрату, сколько то, что прежний мир безвозвратно ушел, унеся в прошлое аромат домашнего печенья, поскрипывание матушкиного кресла, ворох цветных ниток в корзинке для рукоделья и нежный шелест юбок.
Но всю глубину произошедшей беды мальчик постиг почти сразу после похорон, и цветные нитки оказались лишь малой ее толикой… Овдовев, Абеле Бениньо утратил что-то важное и незыблемое, на чем, оказывается, зиждилась вся его сущность. С неделю он растерянно бродил по опустевшему дому, прислушиваясь и будто надеясь снова услышать нетвердые шаги и задыхающийся кашель, а потом нашел вожделенное утешение в винном бочонке.
И вот тут грянул ад. Отец Лауро так и не сумел совладать со своим горем. Когда-то неистовым трудом вырвавшийся из бедности ради того, чтоб жениться на Лилиане, он вдруг потерял под ногами эту многолетнюю опору и за неполный год совершенно разорился. Недавно дородный и исполненный достоинства человек, он стремительно обратился в горького пропойцу, неловко продевающего дрожащими руками пуговицы замызганной куртки в обтрепанные петли. Он с трудом наскребал медяки на стакан, забывая, что эта жалкая горсть монет предназначалась на еду сыну. Он клянчил выпивку у трактирщиков, а потом запирался в грязной спальне и часами молча сидел там, перебирая вещи покойной жены.
Для Лауро наступили непроглядные дни. И не голод, не нетопленный дом, не лохмотья износившихся рубашек были самыми тяжкими из его несчастий. Сердобольные соседки жалели мальчугана, то зазывая его пообедать, то суя ему узелок с одеждой, из которой выросли собственные чада.
Но Лауро, благодаря за подарки и пряча от стыда глаза, глубоко и невыносимо страдал. Тоска о матери утратила для него черты умершей Лилианы. Она обратилась неизбывной скорбью о жизни, в которую он верил, которую любил и которая истаяла, будто зыбкая красота морозного узора на стекле. Все, чему учил его отец, оказалось ложью… Порядок, благоразумие, репутация… Все эти слова теперь казались злой издевкой, когда мальчик глядел на опустившегося пьяницу с трясущейся головой и воспаленными глазами. Но хуже всего было то, что Лауро понял: он ничего не значил для отца. Тот жил лишь любовью к жене, а сын был не более чем придатком этой любви, тут же обесценившимся после ухода матери.
Лауро было стыдно. Стыдно за грязь и нищету в их доме, которые он пытался скрыть, выметая сор и неумело натирая медную посуду. Впрочем, каждая блестящая ложка немедленно перекочевывала в ближайший кабак за глоток дешевого пойла. Ему было стыдно за подачки соседок, стыдно от выражения искренней материнской жалости в их глазах. Стыдно за свою драную одежду, которую он стирал на реке, но не мог замаскировать ее убожества. Стыдно за отца, просящего медяки у тех, кому когда-то щедрой рукой помогал в тяжелые минуты. И пуще всего терзал стыд за собственную никчемность и ненужность. За неумение хоть что-то изменить в судьбе своей погибшей семьи, неспособность тронуть отца ни плачем, ни мольбами, ни остервенелыми проклятиями.
Лауро ненавидел своего ничтожного родителя. Ненавидел до судорог и до боли любил. Мечтал, чтобы тот сломал себе шею, упав с крыльца, или замерз насмерть ночью у трактирной коновязи. Но, когда отец пропадал, не возвращаясь за полночь, мальчик в слезах метался по улицам, расспрашивая соседей, обшаривая подворотни и давясь сумбурными молитвами. Потом волок домой вдребезги пьяного Абеле, грубо ругая его сквозь всхлипы, укладывал в постель и долго плакал, обнимая и вдавливая лоб в свистящую хриплым дыханием отцовскую грудь.
Трудно сказать, какова была бы мера терпения Лауро. Возможно, он так и бегал бы по замкнутому кругу своих терзаний до тех пор, пока пьянство не свело бы Абеле в могилу. А возможно, устал бы от них и сбежал из дому на поиски своей собственной доли. Но Небесам наскучили молитвы и проклятия Лауро, и они решили вмешаться.
Лютой вьюжной ночью мальчик привычно стоял у окна, ожидая возвращения подгулявшего родителя. Мерил шагами холодную кухню и снова вглядывался в снежную закипь непогоды. Обозлившись, он уже собирался лечь спать, когда воображение услужливо подсунуло ему образ отца, жалким комочком упавшего у обочины в снег, его синеватых губ и восковых пальцев.