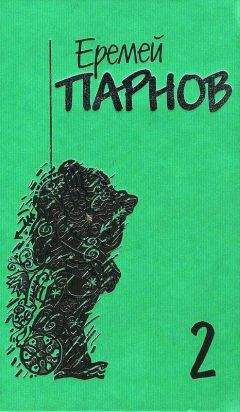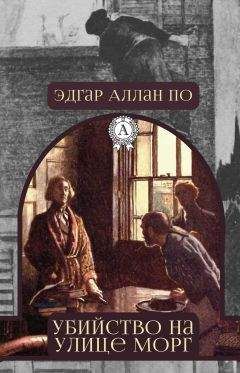Еремей Парнов - Третий глаз Шивы (С иллюстрациями)
В пальцах остался твердый неровный шарик. Брахмачарин с трудом раскрыл полные слез глаза и тут же вновь зажмурился, ослепленный нестерпимым блеском изломанной алой искры. Шарик выскользнул и закатился в траву. Но долго искать его не пришлось. Ослепленный слезами, Гунашарман упал перед слетевшей с неба звездой на колени.
— Джьоткраса[65], — благоговейно прошептал он, накрывая драгоценность ладонью.
Вспомнились аллегорические рассказы гуру и туманные намеки брахманов о тройственном единении Сомы, Индры и Сурьи. Гунашарман попытался запеть благодарственный гимн, но память о мертвых сдавила горло, и, упав лицом в красную от пыли траву, он разрыдался по-детски открыто и безутешно.
Соки Сомы потекли, стремительные
Выжатые капли,
Как капли дождя — на землю,
Соки Сомы полились к Индре[66].
Никого из тех, кто вскормил и воспитал дважды рожденного не было уже на земле. Каплей расплавленного металла прожигал ему руку джьоткраса, которого он никогда раньше не видел, но сразу узнал.
…Ночь застала Гунашармана глубоко в джунглях. По тайным тропинкам уходил он все дальше от родных мест, где пировали победу барласы и джагатаи хромого тюрка. Узкий серп отощавшего небесного Сомы едва проглядывал сквозь многоярусную крышу великого леса. Только на полянах и у ручьев неверный фосфорический отблеск трогал разные листья папоротников или стеклянный узор настороженной паутины. Кувыркались выдры в черных ручьях, глотая лунное отражение и не в силах напиться светом. Их игривому плеску вторили серебристые рулады древесных лягушек и звонкая прерывистая капель срывающихся с листьев пиявок. Ночной лес справлял тайный праздник последней фазы луны. Его наполняли неразличимые шорохи и шумы. Падали в кишащий клопами перегной перезрелые плоды. Водяные змеи скользили, как по льду, с одного берега на другой. Чешуйчатые ящеры подрывали растревоженный муравейник. И страшные совы терзали когтями летучих мышей, ловя всевидящими очами последние призраки зодиакального света.
Сколько невидимых глаз следили из темноты за одиноким путником! В жалком дхоти, с посохом и узелком в руках, он казался таким неприкаянным и беззащитным, что великий лес пропустил его сквозь заповедные дебри, не причинив вреда. Даже замшелый, заляпанный жидкой грязью крокодил не пошевелился, когда босая человечья ступня соскользнула с его плоской пупырчатой головы. Он только приоткрыл глаз, мелькнувший, как угасающая лучина. Но Гунашарман ничего не заметил. Он шел, завороженный скупым сиянием джунглей, прислушиваясь к далекому звону пятиструнной вины, который все явственнее вплетался в таинственный ропот леса. Петлявшая в зарослях тропа постепенно расширилась и стала тверже. Все реже и реже натруженные ноги давили обжигающих скользких улиток и стальные шипы перестали тиранить пятки. Лес неожиданно кончился, и Гунашарман вышел на большую наезженную дорогу. Вина звенела совсем уже близко. Он шел на ее призыв, различая во тьме только уплощенный смазанный силуэт большого раскидистого дерева. Лишь войдя в непроглядную его сень, он увидел белый цветок лианы и промелькнувшую белозубую улыбку. И в это мгновение острый сияющий серп пронзил летучее облачко.
— Кто ты? — спросил он сидевшую под деревом женщину, которая все продолжала тревожить заунывные струны. — Почему я почти не вижу тебя?
— Я смугла, — отвечала она, смеясь, а вина в ее руках стонала и жаловалась, обещая покой и надежду, но только потом, потом. — И на мне черное одеяние.
— Цвет ночи.
— И цвет любви. Присядь, чужестранец, передохни.
— Как тебя зовут?
— Шанти[67], и мне четырнадцать лет. Откуда ты, путник?
— Я жил в долине Суалик. Теперь туда пришел Тимур-Хромой, и у меня никого не осталось на свете.
— Бедный! Мне так тебя жаль! — Девушка перестала играть.
— Ты не только спокойствие, — Гунашарман коснулся ее руки, — ты и радость. Вина, луна в зените и ты… Разве это не утешение?
— Пойдем со мной, юноша. Я омою тебя, умащу благовониями и накормлю.
— Какой ты варны? — настороженно спросил молодой брахман, отдергивая руку.
— Мы шудру, — она засмеялась, — рождаемся лишь однажды.
— Тогда мне нельзя с тобой. Как жаль, что ты из варны прислужников!
— О, конечно! — С вызовом она ударила по струнам. — Ведь ты же брахман! «Из живых существ наилучшими считаются одушевленные, между одушевленными — разумные, между разумными — люди, между людьми — брахманы"[68]. Разве не так?
— Да, таков закон.
— Что за дело тебе до законов, — она вскочила с места, — когда ты сам грязен и нищ, как последний неприкасаемый?! Твоя деревня сожжена и ее жители перебиты, а ты все думаешь о своем брахманстве! Слепой крот! Или ты и вправду веришь, что «брахман — ученый или неученый — великое божество»?[69]
— Таков закон, установленный прародителем человечества, — уже мягче повторил он. — Не сердись, девушка-шудра. Мне нельзя есть твой рис.
— А любить тебе можно? — Распахнув чоли[70], она подступила к нему. Лунная пыль дрожала на тонких ее плечах.
— Мне ничего нельзя, — грустно ответил юноша. — Будь и ты смиренна. Закон говорит, что шудра, если он чистый, послушный высшим, мягкий в речи, свободный от гордости и всегда прибегающий к покровительству брахмана, может получить в новой жизни высшее рождение. Поэтому не горюй и надейся.
— Дурак ты, дурак, — она отступила в тень, — хоть и дважды рожденный. Что мне за дело до другой жизни? Ведь в том существовании буду уже не я. И ты станешь другим. Неужели ты не чувствуешь, что гибнет весь наш мир и вся твоя брахманская глупость вместе с ним? Завтра или послезавтра хромой тюрок доберется и сюда. Милостивая матерь Кали, будь свидетельницей! — Девушка гневно притопнула ногой. — Я не так хотела провести последнюю ночь перед концом света, но боги распорядились по-своему. Значит, так тому и быть! Пеняй на себя, тщедушный брахман.
— Ты напрасно гневаешься, — примирительно заметил он, — никто не виноват в том, что люди принадлежат к разным варнам. Ни ты, ни я, ни боги. Так было от начала мира и так есть.
— Но так не будет, когда тюрок свалит наши тела в одну кучу!
— И очень жаль, потому что и в смерти каждому положен отдельный костер.
— Вот заладил! — Она ударила кулачком по стволу. — Что с тобой говорить, желторотый вороненок! Тебе, наверное, невдомек, что можно жить иначе? Очень весело, хоть и беззаконно, не ведая ни запретов, ни каст?
— Это греховная жизнь, и тяжкая последует за нее расплата.
— Пусть так, но она не хуже твоей… Что ж, пеняй на себя, набитый мертвой премудростью вороненок, ты сам во всем виноват. — Девушка подняла с земли вину. — Я этого не хотела.
— О чем ты, девушка-шудра?
— Так, пустяки, хорошенький брахманчик. — Она зацепила ноготком струну и резко отпустила ее. — Куда ты идешь?
— В город, — ответил он, прислушиваясь к дрожащему звуку. — Хочу примкнуть к тамошней общине жрецов. У меня до них дело.
— А денежки у тебя есть?
— Ни единой паны.
— Иди по этой дороге, никуда не сворачивая, и к утру ты встретишь людей, у которых сможешь поесть, не оскверняя себя.
— Спасибо, девушка-шудра, оставайся с миром.
— Иди и ты с миром, глупый брахманчик. — Она отвернулась и стала перебирать струны.
Под тоскливый напев вины, в котором не звучала уже и отдаленная надежда, Гунашарман вышел вновь на дорогу и скоро скрылся из глаз.
Он не услышал, как оборвалась печальная песня и девушка изо всех сил ударила по струнам. На троекратный трагический крик вины жалобным воем отозвались откуда-то голодные красные волки. С детства приученный к бесстрастию, он спокойно шагал по еще не совсем остывшей пыли, заглушив в сердце тоску и боль невозвратимой утраты. А девушку-шудру он выбросил из головы, как только перестал различать напев вины. И зачем ему было думать о ней, когда в кромешной тени дерева не разглядел он на ее груди и щеках выжженное клеймо тхагов — страшных служителей богини Бхавани?
Он даже не обернулся, когда в нескольких шагах позади него бесшумно выпрыгнула на дорогу странная многорукая тень. Зловеще искажаясь в наезженных колеях, она быстро настигла Гунашармана и вдруг раздвоилась прямо у него за спиной. Он не успел даже вскрикнуть, когда два угрюмых бородача намертво сдавили ему запястья. Испуганно глянул налево-направо, увидел заступ в руке у одного грабителя и белый платок — у другого, но ничего не успел понять от острой удушливой боли, которая сломала ему горло. И сразу все кончилось.
— Готово, — сказал душитель, тхаг, вытаскивая платок из-под бессильно запрокинутой головы молодого брахмана. — Обыщи его, Свами.