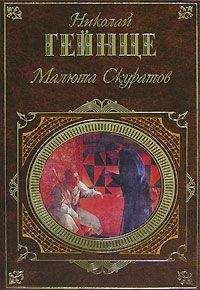Среди падших (Из Киевских трущоб) (СИ) - Скуратов Павел Леонидович
— Да, тысчонку наверно!
— Ну уж и тысчонку!
— А ты думаешь, меньше!
— За меня она сто целковых взяла, да бархатное платье…
— Так-то ты! Ты с червоточинкой была… Да и нос-то у тебя кверху глядит и цвету в лице такого не было и привлекательности. Одно слово, цветочная продавщица…
Болтливые дамы разом смолкли. Послышался где-то вдали голос хозяйки. Секунда и эти доморощенные гурии разбежались по своим углам… Только бедовая Стаська юркнула предварительно в комнатку и стащила самую большую грушу…
* * *
Улюша открыла глаза и с усилием приподняла отяжелевшую головку. Видимо, не понимая, где она находится, Улюша удивленно осмотрела комнату и незнакомую ей обстановку. Облокотившись на локоть, она проводила рукой по лбу, стараясь припомнить, что с ней было. Сквозь туманную сетку вставали в ее памяти неясные фигуры: молодой человек, ее патронесса, — уговаривавшие выпить бокал шампанского… Она вспоминала, как через полчаса по ее жилам разлился точно растопленный свинец… как кровь прилила к сердцу… как неведомое ей ощущение охватило все существо… Уля задрожала, лицо искривилось от ужаса и страдания… конечности похолодели, и она, полная отчаяние, бросилась к двери и раздирающим душу голосом кричала:
— Помогите, помогите!
Точно из земли вырос Пантух.
— Что вы кричите, барышня? Вы перепугали меня и жену.
Уля бросилась на колени и твердила одно:
— Спасите меня, спасите!
— Да, что с вами?
— Погибла я… погибла… Что же это?… Куда я попала? Пустите меня, я хочу уйти… уйти, уйти отсюда…
— Оденьтесь прежде, — любезно уговаривал Пантух.
— Да, да… Дайте мне мое платье… Мне душно… я задыхаюсь… Надо бежать…
Уля рванулась вперед, но руки Пантуха схватили ее и отбросили обратно в комнату. Уля упала на пол и, падая, разбила себе голову о стол, который зашатался и вместе со всем, что стояло на нем, грохнулся наземь. Из маленькой ранки на лбу сочилась кровь… Закрыв лицо руками, бедняжка судорожно всхлипывала, и по ее тонким, детским пальчикам, по ее рукам текли слезы… Пантух преобразился. Из любезного, слащавого человека он обратился в скота. Приторное выражение лица сменилось жестким, злым, упрямым…
— Сиди здесь и, пока ты не перестанешь сумашество-вать, до тех пор никуда отсюда не выпустят. Твои ботинки, платье и шляпка заперты… Глупо бесноваться! Что с воза упало — то пропало! Старайся лучше, голубушка, заработать побольше денег, чтобы окупить то, что мы для тебя сделали. Любишь в шелку ходить, так и плати за это…
— Я люблю… я… Да когда же… Вы сами… ваша жена дала мне все на время… пока я выкуплю свое…
— Милая моя, не строй казанской сироты… Ты вчера подписала счет…
Улюшка вспомнила, что ей дали подписать бумагу, которую она даже не прочла… Она начала соображать… она наконец поняла, что липкая, вязкая паутина охватила ее, что она, как муха, попала в эти нити, спутавшие ее по рукам и ногам… Злоба, отчаяние, сознание обидного бессилия грызли ее. Оскорбленное достоинство девушки, стыд… поругание… омерзение к случившемуся… к нему… к самой себе, — как молотом ударяло ее пропавшую головку… Дико смотрела она на Пантуха. Тот иронически улыбался и, казалось, любовался страданиями жертвы…
— Низкие люди… без совести, без чести…
Пантух улыбался.
— Я не хочу быть здесь! Не хочу, не хочу, не хочу! Вы не имеете права силой держать меня!…
Улюша поднялась на ноги и сделала шаг к Пантуху. Тот продолжал улыбаться.
— Я убью себя… я заморю себя голодом… я выброшусь в окно…
К ужасу своему, Улюша заметила, что окна в этой комнатке никакого нет и она представляла из себя бомбоньер-ку.
Пантух улыбался.
— Что вы смеетесь?! Вы хуже убийцы… вы подлец! — Уля размахнулась и сильно ударила по щеке своего мучителя.
Пантух побледнел. Молча подошел к Улюшке и хриплым от бешенства голосом сказал:
— Моли Бога, что мы из тебя еще можем извлечь пользу. А то я изуродовал бы твою физиономию так, что все отворачивались бы и плюнуть не захотели… Сиди, а то…
Закончив свою речь угрожающим жестом, Пантух вышел, и Улюша слышала, как с другой стороны двери щелкнул ключ…
Уля опустилась на диван и только тут заметила, что она стояла почти голая перед мужчиной. Краска стыда разлилась по ней. Каленые иглы жгли ее щеки, грудь, спину… С содроганием она посмотрела на свою босую ногу… на нее смотрели?… к ней прикасались?… Стыдясь самой себя, она схватила скатерть и прикрыла свою наготу… Прикосновение холодного полотна несколько освежило ее… Затем наступило полное бессилие. Руки, ноги отказывались служить. Каждая косточка болела, каждый нерв ныл, точно его вытащили наружу и дергали щипцами… Не то сон, не то забытье, не то дурнота охватили ее и ее головка бессильно опустилась на грудь; туловище откинулось назад, и она, беспомощная, одинокая, поруганная, точно труп, лежала на диване…
Так прошло около часа. Улюша почувствовала, что кто-то ей смачивает голову водой. Перед ней на коленях стояла незнакомая молодая, красивая женщина и участливо смотрела на нее… Она держала в руках стакан, смачивала темя, виски и дала выпить несколько глотков… Это была Стася…
— Ну что, барышня, легче?… Голубушка вы моя, успокойтесь, — ласково говорила она. — Видно, такая ваша судьба. Смиритесь. Вшысткоедно не вырваться вам отсюда. Тут вы запечатаны; коли смиритесь — и кормить вас станут хорошо, и одевать, и повеселитесь, — потанцуете под фортипья-но… У нас такой старичок есть, все знает — и польку, и вальс, и ляньсье, и па-декатру…
Улюша плакала.
— Вот я тоже много горя натерпелась и так же, как вы, убивалась, а там привыкла и пошло… Милая вы моя, хорошая…
Стася не договорила и залилась слезами…
В душе этой падшей женщины не погас еще луч жалости, добра; но только она понимала все по-своему, по уродливому, исковеркованному.
— Ишь ведь, как дрожишь, оденься…
Стася взяла юбку, накидку вроде сорти-де-баль, и все это надела на Улиньку. Та, точно безвольная — давала себя одевать и ее плечики подергивались и ручки бессильно болтались.
— Кто вы? — наконец спросила она Стасю.
— Я? Эх, барышня!.. Кто я?.. Забубенная головушка! Вот кто я! Стаськой-головорезом меня прозвали. У Стаськи, говорят, души нет… Обобрать ли кого, запутать кого из мущин, меня мадама в первую голову посылает. И знаешь, барышня, с полным восторгом я это делаю! Потому гады, разбойники, надсмешники все эти мущины! Никакой жалости к нашей сестре не имеют… Им бы только надругаться над нами, и за людей нас не считают… А ласкать-то мне их, так словно червя дождевого в руки взять… Вот как омерзительно! А Стаська свое дело делает… потому погибшая, в не-окупном долгу у мадамы, и ничего она вокруг себя не видит… Да хоть бы и откупилась? куда денешься? В прислуги не возьмут; в продавщицы — тоже, везде рекминдацию надо иметь; ну вот, пока тело бело — и буду их грабить, му-щин-то; а там, как в ошметки обращусь, мадама выгонит, и помру, хорошо, коли в больнице, а то где-нибудь под забором…
Уля слушала и, точно челюсти ада открывались перед ней. Каждое слово этой заблудшей овцы открывало весь ужас, все безвыходное положение, в котором очутилась и она. Куда теперь идти? Куда примут ее? Кто откроет ей участливо дверь своего дома и смоет пятно, которым заклеймена… Неужели же через какой-нибудь год и она будет утешать какую-нибудь новую жертву и советовать ей примириться с положением и зажить так, как живут ее… подруги…
— Знаете, барышня, полюбила я вас! Давайте дружить будем… Может, Стаська и придумает что… На первое время покажите, что вы больше не мучаетесь, а как словно довольны положением, чтобы надзор за вами уменьшили, а там видно будет… У вас есть куда идти?
— Нет.
— Ни отца, ни матери нет? И родственников никаких?
— Нет.
— Эх вы, горемычная! — Стася схватила руку Улиньки и крепко, горячо поцеловала ее.
— Что вы! зачем?
— Вы чистая душа, хорошая, давайте, говорю, дружить… Стаська молодчина, придумает что… Ну я, пойду… а то еще хватятся… да и уходить отсель время, мы тут только до утра, а днем на своих квартирах…