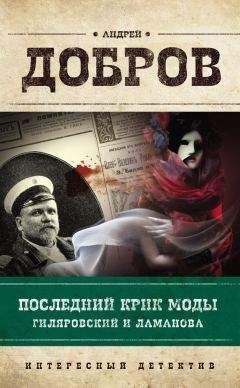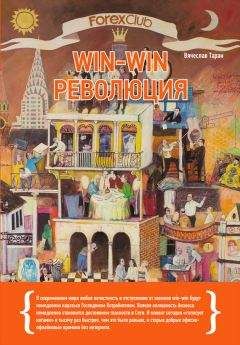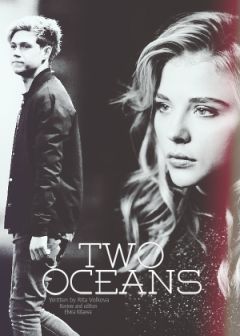Вячеслав Денисов - Огненный плен
Грязно выругавшись, Мазурин ушел, и только тогда Шумов выдохнул: «Идиот…» Но не успел он собрать вещи — закидать в вещмешок кружку и полотенце с кровати, как спутник его пришел. Под ноги мне упали ношеная гимнастерка и красноармейские портки с обмотками. Второй рукой Мазурин метнул мне под ноги тяжелые ботинки.
Пока я переодевался, Шумов бегло просматривал мои документы. Меж листов записной книжки он нашел фотокарточку Юлии. Смотрел с удивлением в ее улыбающееся лицо, потом рассмеялся — нервно, отрывисто, и быстрым шагом подошел ко мне.
— Не та, говоришь?! Ай, Александр Евгенич, Александр Евгенич…
Кажется, ему доставляло удовольствие повторять мое имя по два раза.
И спустя десять минут я сидел на прохладном, но сухом полу школьного подвала. Стены толщиной в полметра, оконце размером с голову ребенка. Перемена мест не потрясала. Только что я оперировал, а вот сейчас с разбитым лицом (Мазурин напоследок, за то, что его послали принести мне вещи, кулаком сунул) сижу в подвале.
Только сейчас почувствовал, насколько голоден. И как сильно вымотался — усталость недугом навалилась сразу. Сначала я повалился с завязанными за спиной руками на бок. А потом уснул.
* * *…Мы выходим с Яковом из Смольного, спускаемся с крыльца и быстро идем до двух арочных ворот, открывающих выход на Смольный проезд. Там он берет мою руку, крепко сжимает и почти тащит за собой.
Мы бежим.
Странно видеть — это почти побег.
— Запомни, Саша… — взволнованно хрипит он. — Запомни, дорогой… То, что ты видел сейчас в этом здании «Воспитательного общества благородных девиц», — забудь!.. — Он нервничает, ищет папиросы. — Забудь навсегда! Ты только что подписал себе смертный приговор. Я был с тобой, меня видели, двое или трое цеплялись за меня взглядом, когда я волок Кирова за ногу. Ерунда, что волокли к выходу пятеро. Главное, что из пятерых один — ты, имя которого теперь известно, а второй — я, у которого в суматохе его забыли спросить!
Мы переходим на более спокойный шаг, выравнивается и речь Якова.
— Саша… — еврей, он имя мое произносит с необыкновенным придыханием — словно утопая на «а». — Саша, ты должен забыть, что я был с тобой. Ты никогда не должен помнить имя мое, возраст и приметы… Меня там не было, понял?
— Да что с тобой происходит? — удивляюсь я.
— Ты как ребенок, я поражаюсь на тебя! — возмущается он. — Ты на самом деле хочешь сообщить мне, что большой ребенок? Тогда можешь не тратить силы. Я в этом только что убедился своими глазами!
Поскольку я молчу, а вопрос до конца не решен, Яков снова берет меня за руку. Эта привычка с юношеских лет хватать меня за руку меня нервирует. Сначала я защищал его во дворе от шпаны, потом водил к женщине. И каждый раз, волнуясь, он брал меня за руку, потому что за руку его едва ли не до пятнадцати лет водила мама, уважаемая мною Рошель Самуиловна. Вот и сейчас, несмотря на то что руку я вырываю, он ее ищет.
— Когда завтра придут в мой дом и зарежут Сарочку, Саша, когда арестуют маму, вспомни слова, что я только что тебе говорил. Киров — не зверь и не герой, но не нужно быть ни тем ни другим, чтобы изменить чью-то судьбу. Наитие подсказывает мне, что после этой смерти… видел бы мой папа то, что видел я, быть может, я получился бы чуть мужественнее… так вот, после этой смерти будет много смертей. И я не хочу, чтобы твое или мое имя было в списке.
— Ты хочешь, чтобы прибили меня одного, я правильно понял? — Наконец-то наступил момент, когда мне можно по-человечески понятно психануть.
Но встревоженный еврей всегда мудрее нервного русского.
— Саша, не доводи меня до исступления своей глупостью. Нас было двое — все это видели. Рано или поздно об этом вспомнят. Скажут — а кто тот еврей, что вместе с Касардиным волок вождя ленинградских чекистов к двери мимо Николаева? И тогда будут искать тебя, Саша… — Яков закурил, наклонившись к моей спичке, и благодарно кивнул. — Потому что хирурга из больницы НКВД в Москве знают все, а еврея с улицы Чугунной никто не знает, кроме его мамы, дай бог ей здоровья. Но второй нужен будет непременно…
— Да кому он будет нужен, второй?
— Нет, я разговариваю с недалеким человеком, — огорчился Яша. — Второй нужен будет, чтобы пришить. Но его не пришьют, пока первый не назовет его имя.
— Мило.
— Умно, — поправил он. — Потому что пока первый не назовет имя, он будет жить.
— Ты окошмариваешь ситуацию.
— Я окошмариваю? — испугался Яков. — Дай бог, чтобы я оказался самым ужасным кошмаром в твоей жизни.
За убийство Кирова ответили тридцать пять тысяч человек в течение двух последующих после событий в Смольном лет. Из них тысяч тридцать ни разу не видели Кирова.
Странно, что разговор этот я вспомнил только сейчас. С разбитым лицом и связанными руками, лежа на полу школьного подвала где-то на Украине, во сне…
Оторвав от пола голову, я почувствовал, что происходит что-то неладное. Я находился в полной тьме. Привстав и невольно застонав от пронзившей руки боли, я прислонился к стене. Духота в подвале, что еще десять минут назад душила меня, куда-то выветрилась. На смену ей пришел холод.
Но поразило меня не это.
Вокруг меня звенела гробовая, страшная тишина.
Мое сердце мгновенно удвоило пульс. А может, я и есть… в гробу?
Вставая и падая, цепляясь руками за шершавую шубу стены, я поднялся на ноги. Из-за того, что вращался на полу, пытаясь ослабить путы, я теперь не мог понять, где находится окошко. Мне казалось, что именно оно должно меня успокоить. Найди я его — и вздохну с облегчением. Но если потеряю — задохнусь или сойду с ума.
Крепко встав на ноги, я сделал несколько шагов.
Такое впечатление, что совершил эти движения в полной пустоте мира. Нет ничего, кроме темноты, пустоты и меня.
И в это мгновение щека почувствовала холодок. Я сделал шаг назад и наконец-то поймал поток воздуха. Повернув голову, увидел едва заметный, темно-фиолетовый прямоугольник на черном фоне. Малевича бы сюда…
Осторожно, чтобы не разбить голову или колени, я приблизился к оконцу. Прижался спиной к стене и вздрогнул, когда где-то вдалеке, пошатнув тишину, тявкнула собака.
Собака? Здесь? Жива?! Последнее показалось мне настолько удивительным, что губы мои растянулись в улыбке. Столько грохота и после — такое веселое «тявк!».
Прохлада струилась сверху мне на шею. И когда я подумал, что как же хорошо, что пропитанный потом воротник гимнастерки под этим дуновением сохнет, я тут же вспомнил, что это воротник — чужой солдатской гимнастерки…
Через полчаса «эмка» должна быть заправлена.
Я словно услышал голос Шумова.
Через полчаса.
Последний раз я смотрел на часы в помещении, где мы с чекистом пили чай. Стрелки показывали тринадцать сорок пять.
Ошеломленный, я отстранился от стены. Все это время я спал. Я не слышал, когда закончилась стрельба. Уснул я под канонаду и разрывы снарядов, а сейчас за стенами школы царила совершенно необъяснимая тишина. Шумов сказал — «через полчаса». Это значит, что в четырнадцать пятнадцать они должны были поднять меня из подвала, усадить в машину и вывезти из Умани. Но сейчас…
Забыв, что связан, я машинально дернул левой рукой. Впрочем, если бы я и не был связан, установить время у меня бы не получилось. Мои часы вместе с документами остались у Шумова.
Что происходит?
Я вспомнил, что, когда меня вталкивали в подвал и было еще светло, в углу я заметил какой-то предмет. Потом глаза привыкли к темноте, и я отчетливо различал поставленную на попа школьную парту. Пора избавляться от веревок.
Сделав несколько шагов, я бедром уткнулся в ученический стол. Встал к нему спиной и нашел руками откидывающуюся крышку. Повернул ее и нащупал металлический навес. Присев и прижав руки, я стал с силой тереть веревку о металл…
Через пять минут я взмок. Но лучше взмокнуть, чем потерять руки. Они уже почти не слушались меня. Уже почти лежа спиной и изнемогая от неудобств, я почувствовал, как одна из жил лопнула. Но рукам легче не стало.
Идиот Мазурин! Надеясь на то, что за полчаса со мной ничего не случится, он связал меня, как чемодан для перевозки до Минвод!
Через пятнадцать или двадцать минут, а быть может, и через десять — трудно ориентироваться во времени, превозмогая резь во всем теле, — я упал на парту. Мои руки, как неконтролируемые конечности марионетки, упали по швам.
— Маразм какой-то, — не выдержал я.
Эти два скота решили везти меня не днем, а ночью, видимо. Наверное, немцы сжали кольцо окружения и теперь вынырнуть из него можно было только при лунном свете.