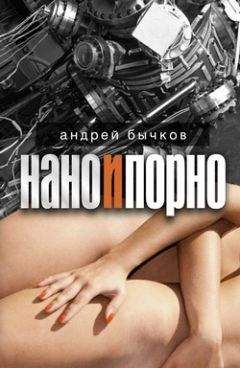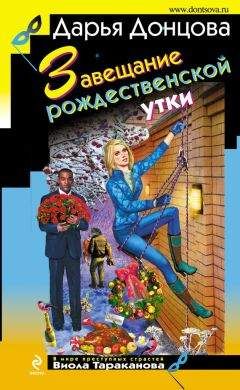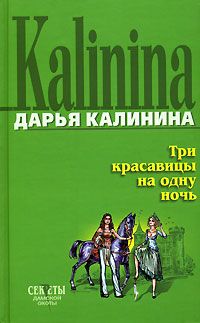Дарья Калинина - Из мухи получится слон
Я поспешно изгнала из головы дальнейшие мысли о сковородах и, вернувшись к нашим насущным вопросам, сказала:
— Ты будешь рада услышать, что телефон Амелин оставить не успел. Ты же любишь находить повод не скучать. Вот чудесный повод поволноваться.
— Чепуха, — одним словом отмела мои тревоги Наташа. — Возьмут крепыша, найдут книги. Даже лучше, что теперь все они в одном месте.
— Почему ты упорно не считаешься с возможностью того, что Амелин и его компания просто оставят книги себе?
— Потому что, — терпеливо принялась объяснять мне Наташа, — они уже подставили крепыша. Мы сами видели, как они подкинули его удостоверение, и, значит, его возьмут хотя бы для того, чтобы порасспросить хорошенько, а когда возьмут крепыша и книг у него не найдут, то все и вся перевернут вверх дном, чтобы их обнаружить. И, конечно, выйдут на тех четверых. Они это прекрасно понимают, и книги окажутся у крепыша. Не волнуйся из-за этого. Боюсь только, что крепыш ускользнет из рук милиции. Тогда уж тем четверым не жить. И мы будем обязаны спасти их.
От последних слов мне захотелось громко и тоскливо закричать, но я справилась с собой. Мои муки были прерваны телефонным звонком. Звонила моя мамочка. Она желала знать, где я пропадаю эти дни и что со мной случилось. Хотя мы провели последние дни очень активно, но я ежевечерне звонила ей с приемлемым отчетом, изготовленным специально для нее, но вот ее самой дома не бывало. Меня успокоила моя тетушка, сказав, что мама занялась поправкой своего здоровья, посещает с этой целью сеансы иглоукалывания и так увлеклась, что дозвониться до нее решительно невозможно. Первый же из этих сеансов пошел маме на пользу, о чем она гордо сообщила тете, и, почувствовав прилив новых сил, она быстро потратила их на дела, которые давно требовали ее внимания.
Разные там мастера, водопроводчики, выправление удостоверения жителя блокадного Ленинграда и прочие бытовые нужды, которые раньше откладывались до поры до времени. Теперь, обрадовавшись своему новому энергетическому заряду, мама переделала их все и, естественно, перетрудилась. После второго сеанса, который состоялся вчера, маму скрутил радикулит и по ноге иногда пробегала судорога. Судорогу, видимо, мамочке врач подложил для разнообразия, потому что раньше она так не страдала. И вот теперь она дозвонилась-таки до своей блудной дочери с материнскими требованиями внимания и заботы.
— Ты представляешь, — возбужденно повествовала моя любимая родительница, — я не в состоянии подмести пол, а еще с вечера замочила пододеяльник в «Доместосе» и боюсь, что не смогу его выполоскать, потому что врач запретил мне поднимать больше одного килограмма, а пододеяльник в воде стал весить значительно больше. Его надо прополоскать сегодня, иначе до завтра он в этом «Доместосе» просто растворится.
— Я использовала его один раз в жизни, и мне этого хватило. Он разъел мне руки не хуже кислоты, — подтвердила я ее опасения.
— Ты чем сегодня занята? Не могла бы приехать и выполоскать его? Стирать уже не надо, он и так уже достаточно белый.
Конечно, я не могла отказать в таком пустяке и быстренько сказала, что уже еду.
— Купи по дороге пару килограммов картошки, — успела дать мне еще одно поручение мама. — Смешно будет носить картошку по килограмму.
Я была согласна и на картошку. И даже выяснила, не нужно ли еще чего-нибудь, но оказалось, что приступ радикулита прошел так же внезапно, как и начался, поэтому свободы передвижения мама не утратила. И все, что было легче килограмма, она могла безбоязненно нести. Я немедленно приступила к сборам, чтобы ехать спасать мамин пододеяльник. Наташе поручила идти к Степанову самостоятельно, сказав, что я приеду в участок прямо от мамочки. В душе я очень радовалась удачно найденному предлогу, чтобы оттянуть нашу с ним встречу. Устроив таким образом свои дела, я уехала.
В пути тихо радовалась приятному разнообразию, появившемуся в моей жизни. Было так славно после ночных погонь и неожиданных встреч ехать в обычном автобусе рядом с мирными старушками, тихо дремавшими на сиденьях, обитых искусственной кожей. В переднее окно светило редкое по зиме солнышко. Снег искрился в его лучах, и даже грязные сугробы по краям дороги приобрели праздничный цвет. Если бы не воспоминания о содеянном, холодившие мне нутро, и предчувствия того, что еще ничего не закончилось, все было бы и вообще чудесно.
Вокруг маминого дома бродило несколько кошек. Все они были пепельно-серые или грязно-серые, когда-то белые. Это были многочисленные потомки одной пушистой полосатой матроны, которая однажды оказала честь нашему дому, поселившись в подвале. До ее появления общественных кошек в доме не наблюдалось. Через положенный по ее кошачьей природе срок она подарила миру три пушистых серых комочка, которые были без единого пятнышка или полоски. Котята выросли и сами стали папами, мамами, тетями, бабушками, свекрами и так далее, но никогда среди потомства той первой полосатой кошки-прародительницы не бывало пестрых или полосатых котят. Этот непонятный каприз природы забавлял меня необыкновенно. И при этом в соседних домах полосатых котов и кошек было хоть пруд пруди, но наш дом был плотно оккупирован одноцветными представителями кошачьего племени. Даже когда случайно в их ряды затесывалась полосатая подружка, надолго она не задерживалась и под каким-нибудь благовидным предлогом торопилась удалиться.
Тлетворное влияние кошачьего племени на мою судьбу не вызвало бы сомнения ни у кого, кто ознакомился с событиями, происшедшими со мной с тех пор, как мне перебежали дорогу кошки возле дома подруги в то далекое субботнее утро, с которого вся каша и заварилась. Но после ночи без сна я не уловила предупреждения, носившегося в воздухе, и не предприняла самых необходимых мер спасения от них. Здесь сыграло свою роль еще и то, что кошки были привычным фрагментом в архитектуре маминого дома.
Возле меня образовалось заинтересованное моим пакетом общество из четырех кошек. Наши кошки жили на широкую ногу и питались тем, что приносили им добросердечные бабушки, которых в доме было гораздо больше, чем кошек, и, следовательно, еда у них не переводилась. А так как жили они коммуной, то излишней робостью не страдали. Ласкаться к человеку ради самого процесса они никогда не желали, им, должно быть, хватало общества друг друга, поэтому они контактировали с человеком, когда их припирали к стенке, держа одновременно в руках соблазнительный шмат колбасы. Тогда они милостиво разрешали погладить себя. Сейчас на мордах четверки отчетливо читался вопрос: «Что несешь? А что из этого ты несешь для нас?»
Обнаружив, что ничего им от меня не светит, они потеряли ко мне всякий интерес и поспешили к своим мисочкам, чтобы утешиться сухим кормом и рыбными головами, а я беспрепятственно миновала кошачью заставу и поднялась на лифте к маме.
«Доместос» оправдал мои самые худшие опасения. Он отбеливал абсолютно все. Начиная с эмали на ведре и кончая кожей на ладонях. Французских красавиц времен Людовиков XIII–XV надо было бы замачивать в «Доместосе», тогда они приобрели бы столь ими ценимый бледный вид. Жаль, что они, бедняжки, тогда ничего подобного в своем хозяйстве не имели.
Мама осталась мной довольна и тут же постаралась впихнуть в меня побольше сведений и еды. Ей всегда кажется, что я худею и чахну просто у нее на глазах, и она переполняется тревогой за мое здоровье и незамедлительно приступает к кормлению. То, что я вышла из младенческого возраста, не останавливает ее ни на минуту. Вот и сейчас она грациозно курсировала между кухней, обеденным столом и холодильником, который стоит у нас в прихожей с тех пор, как один из диванов встал на место холодильника в кухне. С периодичностью в несколько минут мама появлялась с новым блюдом, которое настойчиво предлагалось мне на пробу.
В детстве я была хилым ребеночком с очень плохим аппетитом. С возрастом аппетит наладился. Во всяком случае, меня он вполне устраивает, но мама продолжает быть озабоченной тем, как бы побольше впихнуть в меня еды, и в кратчайшие сроки. Она выработала несколько фраз, которые я всегда использую, когда кто-то из моих знакомых отказывается от поставленной перед ним еды. Здесь главное заставить человека начать есть, независимо от того, взрослый это или ребенок. Если он начал есть, то в силу вступает чисто животный инстинкт, надо съесть все, что влезет, а иначе съест кто-нибудь другой, а ведь это его тарелка и его еда. Он уже не отдаст ее до тех пор, пока будет в силах проглотить хоть кусочек. Но это лишь в том случае, когда он до нее дотронулся. Только тогда она становится его собственностью и, стало быть, начинает нуждаться в защите от чужого посягательства.
Мама с искусностью (мне таких высот никогда не достигнуть) использует разнообразные уловки для удачного кормления меня. Половину ее ловушек я просто не успеваю заметить. Я уже оказываюсь сыта, а передо мной все выстраиваются тарелки и блюдечки с разнообразными десертами.