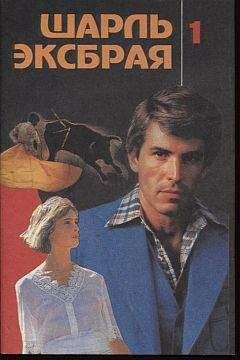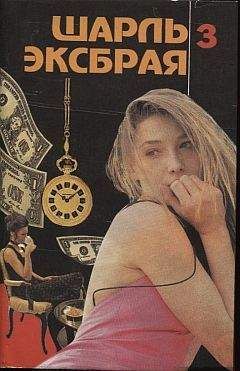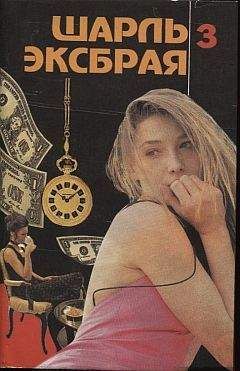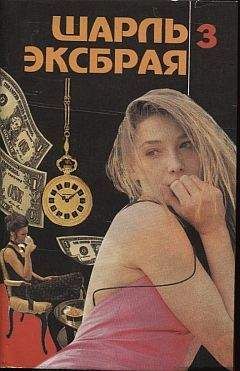Доминика Мюллер - Лагуна Ностра
Все когда-нибудь кончается; детство, расследования, браки, семейная жизнь. Наше совместное проживание было всего лишь отступлением, временным откатом к детству с его школьным весельем, отклонением от взятого комиссаром курса на великие дела. Ему надоела эта дортуарная жизнь, он устал и возвращается к себе к бельэтаж, а Виви оставляет Игорю, который слишком привязался к младенцу, чтобы разлучать его с ним.
И тут земля разверзлась у нас под ногами. Вещи таковы, какими им должно быть, Игорь. Факты не плохи и не хороши, они такие, какие есть. И вот один из них. Врат оборачивается к пухленькой розовой фигурке дядюшки, застывшей у двери в обрамлении коричнево-красных лепных узоров. Вытянутый, как у «Мужчины с перчаткой», палец Игоря указывает на коричневый бумажник крокодиловой кожи, который он держит в другой руке. Мне вспоминается «Страдающий Христос» Верники[65], его рука, сжимающая колючий прут, которым он сейчас будет высечен. Мне вспоминается «Данил» Караваджо, его бледное тело, задумчивый взгляд, устремленный на голову гиганта Голиафа. Мне вспоминаются Олоферн, Иоанн Креститель, их умиротворенные лица, их окровавленные шеи. Я думаю об их убийцах, непринужденно позировавших Гвидо Рени, Жану Валантену, Батистелло Караччьоло, Артемизии Джентилески, Кристофано Аллори и Караваджо, Караваджо, Караваджо, прославленному Караваджо Бориса.
Я думаю о том, что живопись не в силах приукрасить реальность. Я думаю о том, что Альвизе верит только фактам и что сцена «Игорь с бумажником зарезанного Волси-Бёрнса» не могла родиться в воображении ни одного художника. Я думаю о том, что думать бессмысленно.
— Очень надеюсь, что ты не отнимешь у меня Виви. Мне только этого не хватало! Вот этот бумажник! Видите, я все же кое-что помню! — пропел Игорь, гордо сверкая глазами.
— Зачем тебе среди ночи бумажник? Надо же, крокодиловый! Ты стал интересоваться деньгами или переквалифицировался в карманника?
— Не болтай глупостей, Альвизе. Это бумажник Волси-Бёрнса.
— Это еще что за история? Дай-ка сюда. Откуда он у тебя? Только объясни по-человечески. Без всяких карм, пожалуйста.
Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando. Ничего не убавляя из событий той знаменательной ночи, Игорь объяснил комиссару, откуда у него этот бумажник, почему он оставил в андроне кухонный нож и как, покормив той холодной снежной ночью котов, он зарезал Волси-Бёрнса.
Перерезал глотку.
На канале Сан-Агостино.
Глотку.
Волси-Бёрнсу.
13
ХОРОШИЕ ДЕНЬКИ
Вернулись хорошие деньки, а с ними и эта венецианская теплая размытость очертаний, когда бликующие на солнце каналы и наморщенная ветром гладь Лагуны кажутся подернутыми розовой пудрой, словно нанесенной широкой смелой кистью.
Если апрель колеблется между циклонами и антициклонами, май уже вовсю тянется к лету. В мае город отворачивается от севера и гор и обращается на юг, расцвечивая фасады пестрыми неаполитанскими гирляндами стираного белья и пряча за шторами темные сицилийские интерьеры. Позлащенная мягкими солнечными лучами Венеция расставляет на площадях столики под зонтами, нежится на альтанах{10}, спускает на воду лодки и байдарки, полные горластых подростков. Улица заново привыкает к летней толкотне, к импровизированным ночным балам, к оркестрам музыкантов-попрошаек, к стуку мячей о церковные стены, к усиленным микрофонами завываниям гидов, к разноязыкому гвалту туристов, гроздьями облепляющих памятники архитектуры, к этому постоянному гулу большого города, где все переговариваются, перекликаются, переругиваются — с моста на берег, из окна на набережную. Это мимолетное время, когда каналы еще сохраняют свою прозрачность, когда заросли глициний окрашивают палаццо в сиреневые оттенки, а растения одеваются такой яркой зеленью, что кажется, будто они тянут свои соки не из водных глубин, а из самых тучных пашен. Это время буйных садов, пышных роз и сверкающих ирисов, которое продлится до июня, когда на город надвинется напоенная влагой жара. В мае звезды уменьшают амплитуду приливов, удерживая каналы в промежуточном состоянии между неистовством «большой воды» и полным высыханием. В мае на мостовую площади Сан-Марко слетаются тучи, нет, не голубей, а туристов в сандалиях, каскетках и шортах. Целый лес голых ног под дряблыми задницами и обвисшими животами выстраивается перед собором или перед Дворцом дожей, напоминая лес свай, на которых стоят наши здания. В мае все вокруг кажется устойчивым, прочно укорененным в твердой почве, и наша Венеция распускается, расправляется и, уверовав наконец в весну, начинает рассаживать по горшкам, пересаживать, черенковать и подстригать черепицу, кирпичи и мрамор своих каменных насаждений.
Для палаццо Кампана май выдался необычным. У нас полным ходом шли ремонтные работы, только это была реставрация наоборот. Заделывая вековые рубцы и рытвины в стенах нашего здания, рабочие устраняли стигматы модернизации, предпринятой нашей ведьмой Кьярой. День за днем, взобравшись на строительные леса, мы с Борисом скоблили стены, разбивали зеркальные перегородки, ломали ложные стенки. Нам нужен был дворец, похожий на нас, — такой же несуразный и нескладный.
На альтану — устроенную на крыше террасу на столбах — вернулись выпачканный голубиным пометом холщовый навес, соломенные стулья, базилик и лаванда в разрозненных цветочных горшках. В сумерки мы смотрели оттуда, с высоты, как ночь сглаживает черепичные волны крыш, как темнеет небо на горизонте над Джудеккой, и всех нас, даже Альвизе, наполняла радость оттого, что они вернулись — наши хорошие деньки.
Борис воспользовался солнечной погодой, чтобы отлакировать и просушить на теплом ветерке свой пуппарино. Но Рамиз вскочил с ногами в недосохшую лодку. Дядя уже собирался поднять по этому поводу шум, когда, бросив Виви в телемагазинном манеже в саду, в прохладе вековой беседки, осенявшей своей тенью не одно поколение младенцев Кампана, из андрона вышел Игорь. Кутаясь, несмотря на яркое солнце, в плащ, он взирал на лодку с бессилием капитана «Титаника» в момент крушения. Этот плащ, точно такой же, как тот, папин, Альвизе купил ему на распродаже, чтобы сгладить воспоминание об оригинале, сгинувшем в ночь убийства, и Игорь считает, что делает ему приятно, облачаясь в него только в хорошую погоду — чтобы не намочить. С тех пор как дядя дал Борису клятву не лезть в наши дела, он очень боится сделать что-то не так, и мы все время его успокаиваем, что бы он ни сделал.
Подумаешь, какой-то след подошвы на лаке, это же пуппарино, а не «Плот „Медузы“»[66], не из чего устраивать трагедию, ну прыгнул кто-то обеими ногами в лодку, заворчал Борис, когда Рамиз, научившийся за время своих мытарств хитрить, повис у него на шее, шепча: «Ja ti ocher» — «Я тебя люблю» по-албански. Он изголодался по нежности, этот мальчуган, однако Борис буркнул, чтобы он катился целоваться с тетками на Риальто, где его злоключения, раздутые «Гадзеттино» до устрашающих размеров, стали среди торговцев притчей во языцех. Повинуясь его указующему персту и взгляду, Игорь взял Рамиза за руку, засунул Виви в коляску с гидравлической подвеской, приобретенную в телемагазине вместе с кучей детских штучек-дрючек, и покатил в сторону Риальто с таким видом, будто от этого зависела наша жизнь. Борис же, дав наконец волю давно чесавшимся рукам, что было силы саданул по корме пуппарино, на месте которой должна была бы находиться попа Рамиза.
После той истории с бумажником даже Альвизе стал обращаться с Игорем как с выздоравливающим, чудом спасшимся от смертельной болезни, но все еще находящимся под угрозой рецидива.
Выслушав в ту ночь рассказ нашего семейного очистителя скверны, брат испустил самый долгий из своих долгих мученических вздохов и велел Борису сжечь бумажник, и не возвращаться в дом, пока улика не будет, как прах усопшего, развеяна над каналом Фрари.
Рамиз был цел и невредим, Корво и его приспешники сидели в тюрьме, нож лежал в футляре, а бумажник обратился в пепел. Игорю было запрещено выходить одному после наступления темноты, чтобы кормить кошек или все равно ради чего. Вся семья — кровные родственники — могла спать спокойно. «Кровные» — не слишком веселая шутка, но лучше уж так шутить, чем лить слезы.
Однако для Игоря история еще не кончилась: оставался еще один повод для беспокойства в лице Иогана Эрранте. Честный и неподкупный комиссар не смог на следующее же утро не пойти и не сообщить ему, что у него появился соперник, претендующий на звание убийцы Волси-Бёрнса. Если всем нам повезет, бедолага и дальше будет держаться за свои подвиги. В ветхой, перенаселенной тюрьме, где самоубийства сменялись бунтами, Эрранте пользовался среди сокамерников особым почетом, как будто он победил в конкурсе «Кто хочет выиграть много лет тюрьмы», без труда побив рекорд тихого помешательства, поставленный нашим домашним иллюминатом.