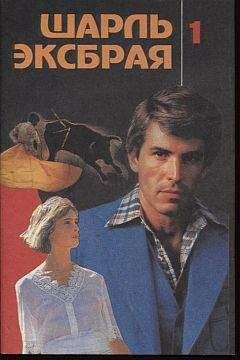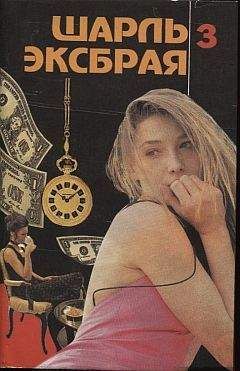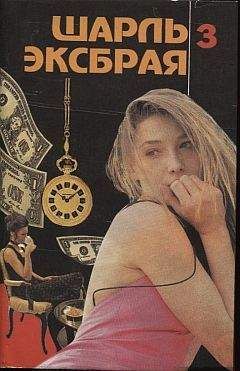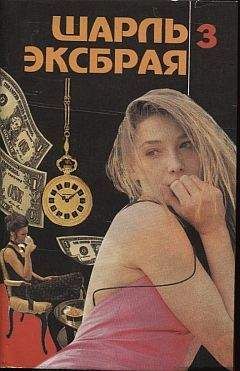Доминика Мюллер - Лагуна Ностра
— Он внизу, на доске, с биркой «Не трогать». А с чего это ты вдруг решил терзать бедную картину?
— Ничего не понимаю. Игорь, да убери ты эти тарелки. Положи ее на стол. Осторожно, не повреди. Я схожу вниз. Через секунду буду.
С годами у меня накопилось множество токсичных порошков, красителей, растворителей — целая сокровищница, над которой я трясусь, как Скупой рыцарь. Присовокупив к ним мольберты, налобные лампы, свернутые рулонами холсты, рамы и мою печку для разогрева масла, воска и смол, Кьяра сослала эти драгоценные баночки в бывшую привратницкую в андроне — из-за запаха и ядовитых испарений, от которых у нее сразу начинались мигрень и рак. При ее диктатуре я вкалывала в этой конуре без окон при свете неоновой лампы, а Борис заглядывал туда, только чтобы взять у меня что-то, из чего можно было бы соорудить растворитель помягче, чем скипидар. Впервые после восстановления «светлейшей республики»[64] нашего палаццо мы с дядей собирались вместе вдохнуть опьяняющих паров свободы. Было темно, но мы и не ждали от осмотра «Мужчины с перчаткой» никакого художественного озарения. Я прекрасно знаю Бориса. Смертельно переживая из-за мальчика, которого он прозевал из-за свитерка, он ждал теперь, что вместе с белилами и сильным клеем улетучатся и его муки совести. И снова, пока Кампана с бельэтажа носился где-то ради спасения несчастного ребенка, члены семейства с более скромных этажей искали утешения в искусстве.
Игорь разложил холст на столе, действуя с той же осторожностью, с какой он пеленает нашего Виви, и с тем же почтением, с каким Никомед у Караваджо поддерживает ноги Христа, опуская Его во гроб.
— Что за чудо этот палец! Смотрите, с какой твердостью он указует на виновных!
— Обрати внимание, он наставлен прямо на нас.
— Это нормально. Он же ангел-хранитель нашего Виви. Вот он и велит вам по окончании убрать все опасные для легких вещества. Выйди из лабиринта, и ты увидишь свет — свет в каморке, где ты держишь свои яды. А я иду мыть посуду.
Все-таки у Игоря есть чувство юмора, только очень своеобразное. Он сам удивился бы, если бы понял это. Но мир моего дяди ни смешон, ни серьезен, он таков, каков он есть.
Душа реставратора заключена в кончиках его пальцев. В его молчаливом труде есть нечто от монашеского самоотречения. Мы с дядей как раз собирались причаститься этого таинства, когда он вдруг разразился градом богохульств, заставивших покраснеть даже «Мужчину с перчаткой».
Насколько я люблю ругаться с Альвизе, настолько пасую перед Борисом, когда он злится: его физиономия, его глаза постаревшего, отчаявшегося Виви меня обезоруживают.
— Теперь понятно, почему холст поврежден! Я потер его щелоком, и его уже два дня как разъедает! У тебя в кладовке такая темнота! Я хотел чуточку подчистить, вот тут. Давай-ка я тебе потру! Смотри сама, если не веришь. Вот это что? Что это? Смывка для металла. Это было там, с твоими порошками. Браво! С ума сойти можно! Большое тебе спасибо!
Я тут была совершенно ни при чем, и он в конце концов признал это. Всё эти неряхи, работяги, которые отдраили пуппарино. Это они, свиньи, перепутали промышленные растворители с моими любовно приготовленными составами. Сдирать краску с камня или расчищать живопись — для этих варваров все без разницы.
— Не ори, Виви разбудишь, — раздался тоненький дрожащий голосок прибежавшего из кухни Игоря. — Это я перепутал, я виноват. Я никогда туда не хожу, в эту вашу кладовку. И не знаю, где что стоит. Смывка была внизу, рядом с пуппарино, на полке с веслами, вместе с лаком. Когда Альвизе принес в дом Виви, я побоялся, что наш ангелочек ее выпьет. Поэтому я все и спрятал. И нацепил на ключ бирку «Не трогать», чтобы он ничего не взял.
— Что ты несешь? Виви — младенец, Игорь. Он не только читать — он ходить еще не умеет. Но сначала скажи: ты-то что делал со смывкой? Тебе-то что надо было отчищать?
— Я отдраивал твой пуппарино, и деревянные части, и металлические. Дело было в ноябре, погода была ужасная, я хотел покрыть его лаком к весне. Время еще было, ты же зимой им не пользуешься. А потом появился Виви, и нам с ним пришлось учиться ладить друг с другом, а потом Альвизе поссорился с Кьярой, и на меня свалилась вся семья, магазины, готовка. Вы же знаете, мне трудно делать два дела одновременно. Ну, я и забыл. И вспомнил, только когда ты вытащил пуппарино, чтобы плыть на Джудекку. И я сказал себе: Игорь, дырявая башка, ты забыл покрыть лодку лаком. Все, обещаю: завтра же займусь этим. А что с картиной? Это серьезно? Я могу что-то сделать?
— Ничего! Главное — ничего не делай! Но что это на тебя нашло? Лодка была в идеальном состоянии. Зачем надо было лак-то сдирать? Ты увидел, как ее испортили рабочие? Испугался, что я буду злиться? Надо было сказать мне, Игорь.
— Это не рабочие. Я сам ее испортил. Я ободрал ее, чтобы очистить, — так надо было.
— Да от чего очистить, боже милостивый?!
— От Волси-Бёрнса. Я тебя от него избавил, а тело положил в воду, чтобы он отмылся и смог переродиться вновь. Все было правильно, все было так, как оно и должно быть. Оставался только пуппарино.
— Игорь, ты заговариваешься. Так и есть, у моего брата поехала крыша. Знаешь что? Давай-ка нальем себе сливовицы, сядем на диван, успокоимся, и ты попробуешь снова все объяснить. Идет? Иди сюда, садись в середину.
Улыбаясь своей безмятежной, умиротворяющей улыбкой, Игорь втиснулся между нами на диван, удостоверился, что у нас есть все, что нужно, и рассказал, как он убил Волси-Бёрнса.
Это было в последнее воскресенье ноября, вечером, когда Альвизе с Кьярой ездили к родителям в Фалькаде. В ночь, когда выпал снег, когда на комиссарский «вольво» обрушился олень, когда сам комиссар лег после полуночи, а потом встал среди ночи и отправился выуживать труп, плававший на поверхности канала Сан-Агостино. Это было зимнее воскресенье еще до начала зимы, когда так хорошо никуда не ходить, ничего не делать, а только болтать и попивать сливовицу у близнецов в мансарде. Это был один из сонных венецианских дней, затушеванный ползущей с Лагуны хмарью, когда кажется, что завтра никогда не наступит. Сливовица проникла в наши вены, и мы уснули пьяным сном. Я не помнила, что Игорь, уложив своего брата-близнеца, приходил ко мне около десяти часов вечера. Зимой он делает это, мой дядюшка. Укутывает нас перед сном узорчатыми одеялами. Начинавшаяся тогда ночь стала для нас с Борисом ночью беспамятства, а для Игоря — длинным кошмаром, населенным ангелами и демонами. Он решил сходить покормить окрестных котов, но подниматься к себе в мансарду не захотел, а потому прихватил у меня самый маленький из купленных в телемагазине японских ножей, такой же, как у него. Он собирался порезать им на мелкие кусочки куриные потроха, которые хранились в андроне, в холодильной камере. И правда, зачем подниматься, спускаться, снова подниматься в такой-то холод? На лестнице сыро.
В том, что Игорь расхаживал по дому с ножом, виновата Кьяра и ее преобразования. В Венеции, где нет погребов, все держат на первом этаже разное старье. Все, только, естественно, не римлянка, чье эстетическое чувство было оскорблено зрелищем продавленных матрасов и драных кресел, стоявших у нас в андроне. Римлянки устанавливают в прихожих холодильные камеры размером с грузовик Рамиза, а то и больше. И вот вам результат: если так крушить прошлое и людские привычки, ничего хорошего не выйдет.
Нарезав курицу и прихватив бутылки с молоком, Игорь оставил нож на скамейке у стены, по которой карабкается вверх наше фамильное древо, снял с вешалки старый папин плащ и вышел в холод, под ненастное клочковатое небо, разливать по плошкам молоко и раскладывать кусочки куры.
Возвращаясь, он увидел, как у наших дверей размахивает руками какой-то человек с мобильником. Тот желал немедленно видеть Бориса и страшно злился, что никак не может дозвониться, как будто все должны сидеть и ждать его звонка, тем более в андроне, где старый, никем не используемый аппарат вообще еле жужжит. Игорь знал, что его брат дает этот номер специально, чтобы отделаться от так называемых любителей живописи, а на самом деле — навязчивых нахалов, которые торгуются и сбивают цены, ничего не покупая, только нервы мотают.
Волси-Бёрнс был именно из таких. Игорь, всегда пребывающий в безмятежности, объяснил ему, что его брат принимает посетителей только по предварительной договоренности, но тот не захотел слушать и вломился вслед за ним в андрон, пытаясь выяснить, дома Борис или нет. Игорь, который ни разу в жизни не солгал, ответил, что нельзя нарушать сон духовидца, ибо это может нарушить его связь с невидимым миром. Этот ответ, в котором не было ничего, кроме правды, окончательно взбесил Волси-Бёрнса. Борис должен быть счастлив, что кто-то вообще заинтересовался его Мараттой, который и не Маратта вовсе. А вот этого говорить было не надо. Игорь не выносит, когда кто-то критикует его брата, осмеивает его находки и ставит под сомнение его проницательность. Он не терпит, когда его брата обижают, даже издали, размахивая руками в андроне, и уж тем более вблизи, что этот человек намеревался сделать. Потому что он явно желал подняться наверх. Чтобы какой-то провинциальный старьевщик спровадил его несолоно хлебавши?! Ну уж нет! Пусть только Борис откажется принять его последнюю цену за Маратту, которым и не Маратта вовсе, он потом будет себе локти кусать! Волси-Бёрнс имеет кое-какой вес в мире искусства, он уничтожит его, с его жалкой репутацией. Никто никогда больше не поверит сказочным атрибуциям и прочим вракам этого Бориса Кампаны.