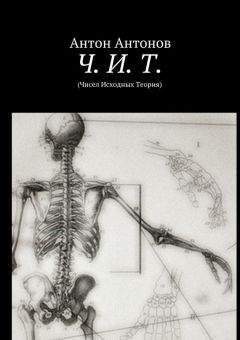Даниэль Пеннак - Людоедское счастье
– Говори тише, Жереми, успокойся, тебе не надо утомляться!
(Не надо главным образом, чтобы тебя услышали в коридоре, черт побери! Дожили: у меня брат поджигатель. Мой брат – малолетний поджигатель! А я-то хорош! Тоже мне воспитатель, педагог!)
– Все шло как по маслу, Бен, я ее уже разряжал, чтобы принести домой, показать тебе – вот, мол, решающая улика, представляешь? А эта гадина как рванет у меня в руках!
(И ты поджег к чертовой матери свой коллеж, Жереми! Ну и ну! ТЫ ПОДЖЕГ ШКОЛУ, В КОТОРОЙ УЧИШЬСЯ!)
– Бен, ты мне веришь по крайней мере?
В первый раз его голос дрожит.
– Бен, ты мне веришь, скажи!
Молчание. Долгое молчание. Я смотрю на него. Молчание длится. Из его глаз с обгоревшими ресницами катятся слезы.
– Ну вот, я так и знал, что ты мне не поверишь. Бен, ты же знаешь, я тебе никогда не врал!
(Иегова, Иисус, Будда, Аллах, Ленин, кто там еще? Ну что я вам сделал?)
– Я тебе верю, Жереми, и это будет последняя глава моей повести, я ее расскажу сегодня Малышу и остальным. Изготовить бомбу в Магазине – гениальная идея! Роскошный эпилог!
31
От холода дрожу в июльский день,
Горю, тону, живу и умираю,
В преддверьи ада слышу голос рая.
Грущу и радуюсь, мешаю свет и тень.
– Клара, когда читаешь стихи, соблюдай размер, делай паузы. В поэзии паузы играют такую же роль, как в музыке. Они задают ритм и в то же время они – тени слов. Или их отблески – может быть так и так. Не говоря о паузах, которые предвещают дальнейшее. В общем, паузы бывают всякие. Вот, например, перед тем как начать читать, ты фотографировала белую кошку на могиле Виктора Гюго. А теперь представь, что после того, как ты прочитала стихотворение, мы оба помолчали. Будет ли это такая же пауза?
– Будет ли, Бенжамен? Такая же ли? Это сложный вопрос!
Она смеется, передразнивая меня. Затем берет под руку, и мы продолжаем нашу прогулку по залитому солнцем кладбищу Пер-Лашез. Как заметила Клара, почти все кошки на кладбище черные или белые. Бывают еще черно-белые, и все, других расцветок нет. Я же думаю о Жереми: десять дней назад ему пришили палец и послезавтра он возвращается домой. Думаю о Джулии, которая несколько ночей подряд прилежно поднимала мое моральное состояние. («Брось, Бенжамен, ничего ужасного в этом нет, дети – экспериментаторы по природе. Конечно, мороки от этого – дай Боже, но это вовсе не ужасно, и ты во всяком случае здесь ни при чем. Не бери в голову, милый, дай я тебя приласкаю, не вынуждай меня заниматься теорией…») О Джулии, запах которой защищает меня до сих пор. Думаю о старикашке Джимини, которого я с тех пор не видел и который, вероятно, ощущает на себе перекрестные взгляды двух полицейских. И еще я думаю о Кларе, которая завтра сдает выпускной экзамен по литературе и при этом ничего не понимает в сонете Луизы Лабе, о котором идет речь.
– Ладно, давай вернемся к Луизе. Прочитай вторую строфу и старайся соблюдать размер, экзаменатор будет тебе за это чрезвычайно признателен.
Смеюсь и плачу, радуюсь беде,
Скорблю в часы блаженства и страдаю,
В единый миг цвету и увядаю.
Мое добро повсюду и нигде.
– Клара, о чем здесь, по-твоему, говорится? Эти сейсмические толчки, короткие замыкания, внезапные перепады настроений – что это такое?
– Впечатление, что ей как-то тревожно. И в то же время она очень уверена в себе.
– Тревога и уверенность, да, ты почти права. Прочитай следующий стих – только один следующий.
Так путь Любви коварен и изменчив.
– Любовь, Кларочка, это любовь приводит нас в такое состояние. Посмотри, например, на свою сестру.
Тут она забегает вперед, внезапно останавливается посреди аллеи и щелкает меня.
– Я на тебя смотрю! – И затем: – Кем она была, эта Луиза? Я имею в виду по сравнению с другими поэтами той эпохи – Ронсаром, Дю Белле и прочими?
– Она была самой законченной фигурой Возрождения. С одной стороны – тончайшая поэзия, а с другой – самая грубая физическая энергия. Она владела шпагой и одевалась в мужское платье, чтобы выступать в турнирах. Она даже участвовала в осаде Перпиньяна и штурмовала стены крепости. А потом оттачивала как можно тоньше свое гусиное перо и писала вот такие штуки, которые дают сто очков вперед всей поэзии того времени.
– А портреты ее есть? Она была красивая?
– Ее прозвали Прекрасной Канатчицей.
Так продолжалась наша прогулка; Клара фотографирует, я разбираю для нее замечательный сонет Луизы Лабе, она бросает на меня восхищенные взгляды, а я думаю, как Кассиди у Бинга Кросби, что если бы я был учителем, то любил бы эту профессию по разным неуважительным причинам, в том числе из-за моей неумеренной склонности быть предметом вот такого наивного восхищения.
После могилы Виктора Гюго, снятой во всех ракурсах, наступает очередь усыпальницы Оскара Уайльда. Тео хочет иметь карточку большого формата для своей спальни. Клара обещала – Клара сделает.
После того как Оскар Уайльд занял подобающее ему место на пленке, прогулке приходит конец: надо идти в школу за Малышом. Последняя картинка по дороге обратно: три или четыре старухи бормочут какие-то заклинания на могиле Аллена Кардека. (На добро какой соседки положили они глаз?) Клара собралась уже их увековечить, но одна из них оборачивается и машет нам когтистой рукой: катитесь, мол, отсюда, ребята. И шипит как кошка.
В эту самую секунду в Магазине взрывается четвертая бомба.
Четвертая бомба.
В мой выходной день!
Бомба самая что ни на есть кустарная: заряд ружейного пороха в футляре от сверла + маленький газовый баллон (для переносной плиты) + … и т. д., оборудованная системой подрыва на расстоянии, сделанной из коробки дистанционного управления от телевизора.
Совсем маленькая бомба.
Она изрешетила осколками керамики торговца санитарным оборудованием, немца по происхождению, который спокойно писал в туалете шведской выставки на седьмом этаже (в самом деле, роскошные туалеты, очень белые, очень прочные – дверь осталась на месте—и так плотно закрывающиеся, что никто не услышал взрыва – легкий хлопок, и все). Который, значит, писал в туалете.
Любуясь старыми фотографиями, которые он прилепил к стенкам кабины!
«К несчастью», этот оказался отцом семейства. Многочисленного. И четырежды дедом.
Может быть даже, он собирал марки.
И несмотря на все свои достоинства, изрешечен белоснежной керамикой. А также осколками железа. И крупной дробью.
И голый.
Голый?
Голый, с головы до пят. В чем мать родила, понимаете?
Его бомба, что ли, раздела? Нет, сам разделся еще до взрыва.
– Но что нас чрезвычайно интересует, господин Малоссен, это что делала ваша сестра Тереза перед этим замечательным скандинавским туалетом? Она стояла там как статуя до тех пор, пока не взломали дверь и не нашли труп. Вот что мы очень хотели бы знать.
Я тоже.
32
– Но я же тебя предупредила, Бен!
Она стоит, непреклонная как судьба, в окружении трех полицейских, у которых такой вид, как будто они собираются подать в отставку. Вокруг нас суетится, как улей, Главное управление уголовной полиции – если, конечно, допустить, что пчелы стучат на машинках и курят сигарету за сигаретой среди пустых банок из-под пива.
Короче, моя Тереза стоит в этом занюханном кабинете, слишком длинная для своего возраста, с торчащими во все стороны локтями и коленками, и оттого, что я вижу ее в этом месте, в табачном дыму, среди всех этих самцов, на меня накатывает внезапный приступ родственной любви.
– О чем ты меня предупредила, маленькая?
Двойник Бака-Бакена сожрал бы ее живьем, если бы не боялся сломать зубы. Другой же мечтает, наверно, воссоединиться с ромовой бабой. Оба выглядят совершенно прибитыми. Третьего я не знаю. Это молоденький блондинчик, который чуть не плачет:
– За час мы ничего другого из нее не вытянули!
Действительно, все время, пока меня не было, она повторяла одно: «Я буду разговаривать только с моим братом Бенжаменом. Я его предупреждала».
– Предупреждала о чем, чтоб тебе было неладно? – орал на нее блондин. – Ты у меня расколешься, сука!
Он и в самом деле совсем еще мальчишка.
За неимением лучшего, им пришлось ждать появления Карегга с подозреваемым номер один, то есть мной. И вот я стою теперь перед Терезой, по-братски улыбаясь ей, в то время как другие менты проводят у нас обыск, переворачивают все вверх дном в бывшей лавке и в моей комнате, с такой яростью стремясь найти (что найти?), что, кажется, готовы разрезать Джулиуса пополам, чтобы поискать внутри.
– О чем ты меня предупреждала, Тереза?
Она вздрагивает и смотрит на меня так, как будто только что проснулась.
– Я ж тебе написала: двадцать восьмого, третьего, одиннадцатого или седьмого, с очень большой долей вероятности, что двадцать восьмого.