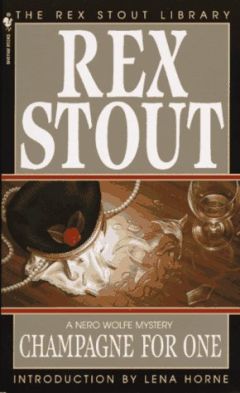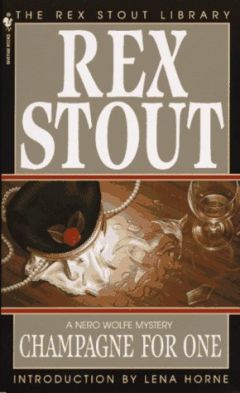Даниэль Пеннак - Господин Малоссен
– Жюли, я не хочу, чтобы ты показывала фильм Иова!
Остановила ее даже не просьба, а тон, которым она была произнесена. Скачок в тридцать лет. Пронзительная ненависть. Барнабе уточнил:
– Не надо!
Так. Началось.
– Зачем же тогда было спасать «Зебру», ведь именно там состоится показ?
– Показ не состоится, можешь мне поверить! Я спас «Зебру», чтобы вы разместили там фильмотеку Иова. Я обещал Маттиасу, что я вам помогу. Я выполнил обещание. И не от нечего делать, скажу я тебе! Пусть Иов отдает свою фильмотеку кому пожелает… хотя я как наследник мог бы оспорить это решение! Но взамен я хочу, чтобы показ его Уникального Фильма не состоялся, вот и все. И он не состоится!
Жюли не ответила.
Он добавил:
– Услуга за услугу!
Она по-прежнему молчала.
– Если ты станешь показывать этот фильм, Жюли, ты пожалеешь об этом с первых же кадров.
Она смотрела в зеркало.
– Выходи, Барнабе. Давай поговорим.
– Нет. Я останусь на месте, а ты будешь слушать.
Она вздохнула и, присев на подлокотник дивана, стала слушать. Столько лет его не видела и так устала уже слушать его, да и от него самого – тоже. Барнабе, или воплощенная ненависть к деду. Эта кусающаяся ненависть невзрослеющих подростков… Посвятить всю жизнь бесконечному сведению счетов с ненавистным предком, жить как бы под копирку, его жизнью, но только наоборот, кантоваться в парижской квартирке, в то время как все думают, что ты расположился в шикарном отеле… связать всю жизнь с этим ненавистным стариком… понимая, что загнешься от собственной никчемности без поводка этой ненависти… ненависти к деду! Эдип в квадрате… весьма занимательно для психоаналитика… но глубоко безразлично для Жюли.
Она выразила это по-своему:
– Двадцать лет, как я тебя не видела, Барнабу, и двадцать лет, как ты перестал меня удивлять.
– Нет, Жюльетта, ты меня видела! Не далее как вчера, у «Зебры»! Ты видела меня и в больнице, когда приходила к Лизль… ты видела меня много раз, но ты не узнала меня.
Вот как?..
– Вот видишь, я еще могу тебя удивить!
Она молчала.
– Лизль тоже меня видела за несколько минут до смерти… И Иов! И Рональд де Флорентис, этот ненасытный коллекционер со своими вечными букетами! И ты! Вижу тебя как сейчас! Ваш взгляд скользил по мне… я был для вас никем. Даже для Лизль! Да, я был там, когда она решилась отбыть в мир иной! Я был там накануне, когда и ты там была, и я был там в день ее смерти! Бедная Лизль так и не узнала меня, и это она, которая так переживала, что я не пришел ее проводить!
«Хорошенькое дельце», – подумала Жюли.
Но его понесло:
– Нет, мой идеал – не Святой Дух, Жюльетта, мой идеал – это никто.
Он повторил:
– Никто, nobody,ninguйm,nessuno,niemand,khфngai…persona[14], Жюльетта, маска ! Оттого что вы меня не видели, не лицезрели, вы потеряли меня из виду. Но я-то здесь, видимый и осязаемый, я брожу по улицам, заглядываю в театры и больницы… я смотрю!
– А Маттиас?
– Маттиас перестал меня замечать, едва мне три месяца исполнилось! Маттиас видит только новорожденных. В плаценте его памяти я навсегда остался одним из новорожденных: вылитый папа Иов! Фиброма, доброкачественное новообразование!
Она встала.
– Не показывай этот фильм, Жюли!
– Ну, это Сюзанне решать, теперь это прежде всего ее касается.
– Нет, тебя. Тебя и меня. Я помешаю этому показу!
«Так старается, чтобы я спросила его, что такого в этом чертовом фильме, – подумала она, – и всё ради удовольствия ответить, что меня это не касается… да, мне плевать, Барнабе… плевать с высокой башни!..»
Она направилась к двери.
– Я поговорю с Сюзанной и остальными, – пообещала она. – Если хочешь участвовать в разговоре, приходи.
Она обернулась.
– Приходи. Сегодня вечером. В бинтах или без, человек-невидимка, мне все равно.
Она уже стояла на пороге, когда он крикнул ей вслед:
– Куда ты?
– Делать аборт.
22
Сидя в своем кабинете, отделанном в стиле «ампир», в сумраке, разбавленном слабым светом едва забрезжившего дня, дивизионный комиссар Кудрие думал о Гернике[15]. Нет, не о бомбардировке маленького баскского городка и двух тысячах невинных жертв, а, разумеется, о картине. И не обо всем грандиозном полотне в целом, а только о лошади, бешеной лошади. Мысли дивизионного комиссара Кудрие были полностью заняты конской головой с выпученным языком. Хотя Кудрие совершенно не расположен был сейчас шутить, он, однако, подумал, что это выражение, верно, понравилось бы покойному Пикассо. Комиссару представлялось почему-то, что этот язык лезет из глаз животного. «Если только не из моих собственных…» Выпученный язык казался ему каменным. И в то же время он напоминал язык пламени. Стоит человеку постараться – и камни начинают пылать.
Да.
Так размышлял комиссар Кудрие.
Свет зари лизал стены ампирного кабинета.
На сафьяновом бюваре были разложены фотографии расчлененного трупа девушки.
Монашка, ставшая полицейским, безмолвно сидела напротив.
Жервеза молчала.
Комиссар размышлял, прислушиваясь к шипению уборочной машины, ползущей по влажному тротуару.
На самом деле, если присмотреться повнимательнее, было в этой лошади что-то от собаки. А именно от собаки в припадке эпилепсии. В голове Кудрие пес-эпилептик выпучил свой каменный язык.
А на сафьяне рассыпалась на части несчастная жертва.
Комиссар поднял глаза на Жервезу и заговорил, продолжив с того, на чем остановился, отвлекшись на странное видение. Ах да!.. самоубийство старика Божё, бельвильского осведомителя инспектора Жервезы Ван Тянь.
– Сплошь в татуировке, как сообщил мне Силистри… от шеи до пят.
– Да, Мсье.
– И кто автор этих татуировок?
Но Кудрие уже знал ответ.
– Я, Мсье, – ответила Жервеза.
И пояснила:
– Когда отец расследовал дело об истреблении старушек в Бельвиле, я поручила Шестьсу оберегать его. Шестьсу имел особое влияние на подрастающее поколение сорвиголов квартала. Можно было не сомневаться: пока Шестьсу присматривает за отцом, его не тронут. А в последнее время он передавал мне новости о Малоссенах…
Потом добавила:
– Взамен он захотел этот бельвильский сувенир. Другого вознаграждения он не желал. Он приносил мне фотографии снесенных домов.
Дверь бесшумно отворилась, с кофейным подносом в кабинет вошла Элизабет, пожизненная секретарша дивизионного комиссара Кудрие. Через три дня она тихо отбудет на пенсию. Следом за ним.
– Благодарю вас, Элизабет.
Щетка уборочной машины поворачивала за угол, на набережную. Утренний туалет.
– Я знаю, что вы не слишком жалуете кофе, Жервеза, но когда всю ночь проводишь в бдениях у гроба, следует выпить два двойных, и без сахара. Это мое правило.
– Хорошо, Мсье.
«Она называет меня „Мсье", – отметил комиссар. – С большой буквы, совсем как Пастор».
Через три дня уход в отставку сотрет эту уважительную заглавную.
– Я никогда не интересовался у вас, Жервеза, но мне хотелось бы знать, где вы научились этому искусству татуировки?
– В Италии, Мсье, в соборе Лоретской Богоматери. Паломники там часто делают себе татуировки.
Продолжение дивизионному комиссару Кудрие было известно. Монахиня из Нантерра в приюте раскаявшихся потаскушек (по выражению инспектора Ван Тяня, ее отца), Жервеза обрабатывала и девиц, и их татуировки, возвращая ценность душам и телам. В целом мире лишь ей одной было под силу превратить эрекцию пунцового пениса в лучезарное сердце Христово, или знак сутенера в ветхозаветного голубя, или сцены вакханалий на теле проститутки в роспись Сикстинской капеллы.
Само собой разумеется, церковное начальство ополчилось на сестру Жервезу с возмущенным протестом: что это еще за дьявольские каракули, какая мерзость… Та же в ответ на их брезгливое отвращение привела примеры первых христиан, святой Жанны Шантальской, основательницы ордена Марии и Елизаветы, носившей татуировку во славу имени Господня, или, наконец, крестоносцев, защитников истинной веры, оставшихся лежать в земле неверных с крестом, наколотым на сердце.
Побитое историческими фактами, начальство обрушилось тогда на сестру Жервезу с упреками за неподобающий круг знакомств, за ее преторианскую гвардию раскаившихся сутенеров, за то даже, что она поселилась на улице Аббес, в квартале Пигаль, в этом проклятом Богом месте. Жервеза отвечала, что рай не отвечает за преисподнюю и что как ангелы могут пасть, так и падшие ангелы могут обрести спасение. Сестра Жервеза была немногословна, но ее ответы попадали не в бровь, а в глаз.
Жервеза и комиссар молчали.
Кофе.
Чашечки с золотым ободком и выгравированной императорской литерой «N».