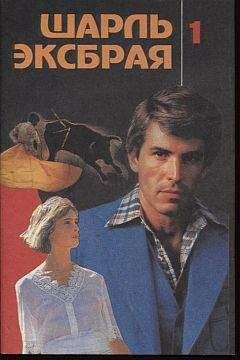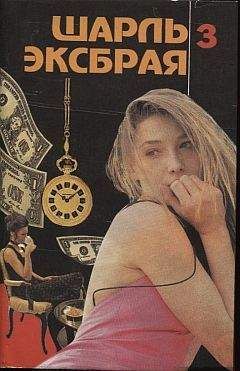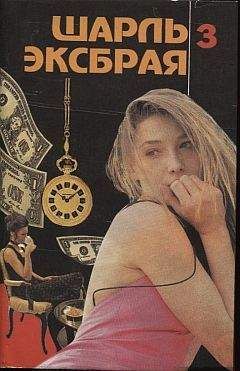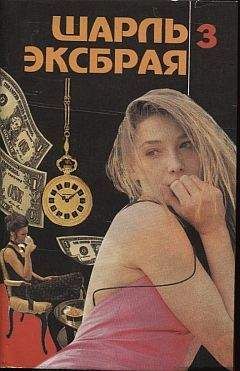Доминика Мюллер - Лагуна Ностра
Эта Аннамария живет прямо в мастерской, без отопления, на острове Джудекка, за огромным кирпичным зданием «Молино Стукки», бывшей мукомольной фабрики, перестроенной в шикарный отель. Поездка к ней — это целая история, но реставраторша с одинаковым энтузиазмом относится к безумным атрибуциям Бориса и его мужским чарам. Вот дядя и отправился за утешением к ней на остров, имея в кармане все тот же просроченный билет, с которым ему вот уже несколько лет удается зайцем проникать на вапоретто.
Игорь, который обожает сны, никак не мог остановиться, расспрашивая меня о моих кошмарах. Я была уже на пороге, когда он нежным шепотом сообщил, что настоящий герой моих сновидений — это Волси-Бёрнс и истина, которую он хранит, так ужасна, что наутро я не могу ничего вспомнить. Он схватил свежий номер «Гадзеттино» и ткнул пальцем в волнующий снимок, запечатлевший рыбу-луну, выброшенную волнами на пляже в Каорле. Этот знак, посланный из пучины вод, символизировал кита, слопавшего Волси-Бёрнса, когда тот свалился в канал. Его-то я и ищу в той лодке, во сне. И я так боюсь узнать того типа с веслом, что каждый раз просыпаюсь, не дождавшись, когда мне откроется лицо убийцы. Не важно, кто ты — следователь или убийца, все равно мы все в одной лодке. И лодка эта ни хороша и ни плоха, она плывет. Вот что означает мой кошмар.
Игорь воздел руки к потолку. Мне было бы правильнее подумать о чем-нибудь другом, вернуться к моим плафонам, в которых я скорее найду ответ, чем в его речах. После чего он заявил, что каждый должен следовать своему кармическому пути, главное, чтобы этот путь вел к свету. В Венеции этот путь повторяет двойную спираль Большого канала. И если я хочу помочь Альвизе, мне надо восполнить лакуны, узнать, что делал Волси-Бёрнс в городе, между жизнью и смертью. Убийца зарезал его, чтобы восстановить равновесие вещей, обрести некий центр тяжести, вернее, центр знания — это же яснее ясного!
Вот так всегда. Голос Игоря действует на меня как детская считалочка: через какое-то время я начинаю засыпать. Я спустилась к себе в антресоль и провалилась в сон без мук и сновидений: стараниями дядюшки кошмар капитулировал.
Дожидаясь Бориса, я разбирала бумаги, складывая в стопку репродукции плафонов — головокружительные вознесения к заоблачным далям. Вот кто понимает в восстановлении равновесия, так это мои художники, и все благодаря перспективе «di sotto in su»[52] — этому порыву, уносящему персонажей в горний мир. Пол моей комнаты был усеян разнообразными лодками и гондолами, какие я только смогла отыскать в своих книгах, но мне так и не удалось ни разгадать загадку Волси-Бёрнса, ни найти ответ на интересовавшие меня вопросы: зачем после десятилетнего отсутствия он снова явился в Венецию? Как повстречался на конечной станции поезда с кухонным ножом? Что связывало его с Энвером, а может быть, и с Микеле Корво?
И тут я увидела его, профессора, собственной персоной: та же дородная фигура, то же довольство на широком лице, то же притворное благодушие по отношению к детям. Вот он царственно возвышается на огромном полотне Джироламо Форабоско[53] «Чудесное спасение гондолы».
Маламокко, старинная рыбачья деревушка на побережье, изуродованном ремонтными доками для нефтеналивных и газовых танкеров и гигантским строительством мегадамбы «Моисей», призванной защитить Венецию от натиска «большой воды», примостилась на длинном языке из наносных отложений, что протянулся от Лидо до Кьоджи, отделяя Лагуну от моря. Там и смотреть-то не на что, в этом Маламокко, кроме огромного полотна, написанного Форабоско по обету для деревенской церкви. Прелестная молодая женщина, стыдливо опустив глаза, сходит на берег, прижимая к себе пухлого малыша. Вокруг нее — целая толпа детей, заполняющих собой все пространство картины, все они приблизительно того же возраста, что и мальчуган, с которым Илона явилась в профессорскую гостиную. На берегу, под грозовым небом, их встречает сам толстяк Корво. Но если я вижу в этой картине ключ к расследованию Альвизе, сам комиссар вряд ли удовлетворится такой хилой уликой. Я совершенно пала духом, но тут позвонил Борис и велел ждать его на вокзале, прямо на платформе, с которой отправляются поезда на Тревизо. Зарывшись с головой в воображаемые улики, я совершенно позабыла о поездке на виллу Микеле Корво.
Когда живешь в Венеции, Тревизо воспринимается как славная младшая сестренка. Людей там побольше, а вот художеств — поменьше. У нас дома имеется все, что нам надо, и он не собирается впадать в экстаз перед музейными Чима да Конельяно и Лоренцо Лотто, проворчал Борис, выражая наше пренебрежение по отношению к «бедной родственнице». Мы приехали сюда, чтобы попасть на виллу Корво — это в десяти километрах от Тревизо, в долине реки Силе, — и чем скорее мы там окажемся, тем скорее сможем вернуться обратно на вокзал, на том же такси, которое будет нас ждать — за денежки Корво, разумеется. Когда дядюшке по чьей-то милости скучно, за это сполна расплачиваются окружающие, пока он, задрав нос, прогуливается с усталой грацией породистой борзой.
В такси, которое везло нас к вилле Чендон, петляя по узкой песчаной равнине, что тянется от Тревизо до северной оконечности Лагуны, он меня достал. Это ж каким последним ночным горшком надо быть, чтобы выбрать такое местечко, у самой автострады, да еще в этих краях, где то завод, то гипермаркет, то от комаров некуда деться, хорошо еще, если они не малярийные! Он расходился так, будто мы с шофером лично изуродовали эту промзону, где там и сям за высокими заборами прозябали в тиши загородные дома. Вилла Корво, построенная в классическом для XVIII века стиле, с центральным корпусом, по бокам которого вытянулись низкие флигели, была исключением из этого правила. На нескольких гектарах жирной земли, где вполне мог разместиться настоящий «Сад земных наслаждений» с лабиринтом, представленный пока двумя самшитовыми деревцами в горшках по бокам входной двери, копошились тракторы, экскаваторы, подъемный кран и бульдозер.
К нашему счастью, Микеле Корво еще не вернулся из своей деловой поездки. Он отдал соответствующее распоряжение хмурым албанцам, мужу и жене, которые не имели ни малейшего желания говорить по-итальянски и встретили нас с таким видом, будто наше вторжение нарушало мирные договоренности, принятые ООН.
Ожидая увидеть нагромождение всякой дряни, вроде того, что предстало нашим глазам в венецианской гостиной, мы онемели от удивления, когда перед нами открылась анфилада залов, украшенных фресками и плафонами Тьеполо: бессчетное число «Триумфов», «Апофеозов», «Пиров» и «Свадеб» с характерными изломанными формами. Эти вещи, безупречно отреставрированные и достойные «украсить собой лучшие музеи мира», как любят говорить торговцы живописью, абсолютно не нуждались в нашем вмешательстве и говорили об одном: Микеле Корво специально продемонстрировал нам свои астрономические богатства, чтобы купить комиссара, его содействие или молчание.
Борис смотрел на богов и героев с отвращением: он терпеть не может эту декоративную живопись — живопись, где нет ни страдания, ни насилия, живопись, которая по вкусу таким свиньям, как Корво. Албанская пара, следовавшая за нами по пятам, как футболисты за своими противниками, протянула нам несколько страниц инструкций, написанных профессором специально для нас. Оказывается, Тьеполо был только закуской, а основное блюдо находилось в служебной пристройке, под аркадами оранжереи в восточной ее части и конюшни в западной. Их сводчатые залы походили на склад старьевщика, где, рассортированные по материалу и технике, времени создания и происхождению, валялись груды китайского фарфора, тосканской поливной керамики, ломбардских наборных панно, лигурийских столешниц из поделочных камней, неаполитанских позолоченных кресел, каменных святых из Сиены, бронзовых святых с Сицилии, мраморных святых из Флоренции, древнеримских статуй, византийских реликвариев, балканских икон (привет от Энвера), попорченных сыростью ирландских часословов и в довершение всего сотни картин и картинок, произведенных за последнее тысячелетие по всей Италии, от алтарных триптихов со сверкающими золотом фонами до современных рваных плакатов. И всю эту дребедень мы должны были оценить и атрибутировать. А рисунки, гравюры, литографии, офорты? Албанцы потянули нас за рукав к лестнице на чердак, где, рассованные по папкам, жались друг к другу тысячи неоприходованных графических листов. Кое-как придя в себя от этих излишеств, я перевела взгляд на натянутую тут же веревку, на которой сохло плохо расправленное белье. И сразу вопрос о том, что собирался Корво делать со своим караван-сараем, отошел на задний план. Что делали здесь, в этом доме, населенном одними взрослыми людьми, эти детские одежки, разрозненные носочки, застиранное белье? Я шепотом задала этот вопрос Борису, который на той же частоте ответил, что албанцы имеют право жить здесь с семьей. Но я все еще оставалась под впечатлением от картины из Маламокко с ее чудесным спасением и не хотела отказываться от мысли, что эти одежки принадлежат тому мальчугану, которого мы видели у Корво, ему самому или его братику. Чтобы убедиться в этом, надо было обыскать дом, перерыть его сверху донизу, усыпив бдительность албанской парочки. Альвизе справился бы с этим играючи, чего не скажешь про его сестру, пребывавшую в крайнем замешательстве. Спустившись обратно в художественный пандемониум Корво, я присела на корточки между двумя огромными китайскими вазами, притворившись, что хочу показать Борису какую-то деталь. Мне надо было, чтобы он присел рядом со мной. Предпочитаю не думать о том, какое зрелище мы представляли — два экспоната, лишенные какой бы то ни было художественной ценности, активно переругивающиеся среди целого леса возвышающихся над ними фарфоровых ваз. Борис сказал, что ничего, кроме проблем, из моей блажи не выйдет. Единственное, чего он хочет, — это сбежать поскорее от всех этих ужасов, сесть в такси и не вылезать из него, пока мы не окажемся в Венеции, по ту сторону моста Свободы. Дядя любит нацепить на себя ледяной панцирь, однако, если затронуть его за живое, он становится жутко сентиментальным. Мне стоило только упомянуть Виви, нашего Виви, который мог оказаться здесь, на этой вилле, на месте этого ребенка с носочками, но главное — я шепнула ему, что среди всей этой мазни обязательно должен быть какой-то неизвестный шедевр, который только и ждет, когда дядя вернет его из забвения. Он так не думал. От всего этого за версту несет подделкой. Но почему бы и нет? А что, если?.. Мысль, что по небрежности он может пройти мимо нового открытия, была ему невыносима. Любопытство взяло верх над сомнениями, и, смахивая пыль с нарисованного на фарфоре упитанного императора, я мысленно потирала руки. Все же дух семьи Кампана неистребим, гордо вскинув голову, он смотрит на нас с фамильных портретов и готов принять любой вызов. Был бы повод.