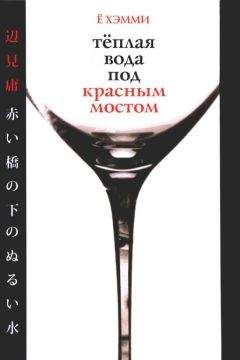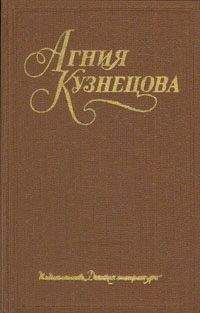Хелена Секула - Барракуда
– Ненавижу разрывать рабочий день, а он у меня ненормированный. Особенно в последнее время.
– Ну да, ты же к вернисажу готовишься.
– Ты и об этом знаешь! Ты меня удивляешь.
– О твоей выставке в Америке знают все, кто хоть немного интересуется современным искусством. О тебе французские газеты пишут.
– Какие там газеты, один журнал – и все.
– Без разницы…
– Завтра по поводу выставки мне надо лететь в Штаты…
– Сегодня. Уже пробило полночь. Какого черта ты позволила затащить себя в Ориль накануне отъезда? Не могла отказаться?
– Не могла. Именно перед отъездом в Нью-Йорк мне надо было обязательно осмотреть виллу кофейного магната, чтобы подобрать свои гобелены к интерьеру. Магнат заказал их у владельца галереи, с которым я работаю в Нью-Йорке.
– Да ведь дачка Станнингтона полностью отделана!
– Значит, это был только предлог.
Перед глазами снова встает лицо убитого.
Врывается под сомкнутые веки, маячит в памяти. Назойливый знак вопроса.
Где-то я видела это лицо… Но где? Мелкая сеточка морщин у висков, две резкие носогубные складки…
И это еще не все. Постаревшее лицо, из-под которого расплывчато проступает образ молодой, тоже знакомый…
* * *– Луг! Шпалера, выполненная в самой простой технике, известной в Европе с четырнадцатого века. Отличается оригинальным переплетением, изысканностью фактуры, трехмерностью образа!
Аукционист называет номер лота и дирижерским жестом взмахивает серебряным молоточком на эбеновой рукоятке. Одетый в бежевый смокинг, он председательствует на возвышении за стильной кафедрой, похожий на центральную часть триптиха. С двух сторон его обрамляют изысканные арки.
– Творческие поиски художницы, родившейся в стране, чьи летописи начаты более тысячи лет назад… – Аукционист замолкает, давая присутствующим посмаковать тысячелетие польской истории.
Реклама.
Гермес понимающе подмигивает. Он не из невежд, для него Польша – не только Костюшко, Дзержинский, нью-йоркские докеры, анекдоты о тупых поляках и Папа Иоанн Павел II. Но все-таки именно Гермес постарался, чтобы на аукционе подчеркнули кое-какие факты из истории народа, живущего между Татрами и Балтикой.
Гобелен – одна из первых моих работ, никакой не творческий поиск, просто у меня не было денег на ткацкий станок. Зато колористика и правда хороша. Гамма приглушенной зелени, такой изысканной и в то же время почти физически осязаемой: сочная травянистая, малахитовая и цвета свежего березового сока.
Аукцион начался. Меня изнутри бьет дрожь.
– Все будет отлично, Гая, – улыбается мне Гермес.
Точнее, наклоняется ко мне, потому что улыбка у него до ушей, как приклеенная. Я тоже беспрестанно улыбаюсь.
Тут улыбаются все и всегда, кроме гробовщика при исполнении обязанностей. Здесь положено демонстрировать, что все о'кей. Достигшие успеха хвастаются им. Начинающие изо всех сил показывают, что обязательно добьются своего. А неудачники делают вид, что жизнь прекрасна.
Не улыбаются разве что те, кто махнул на себя рукой и без сопротивления катится на дно. Но здесь, в выставочных залах Музея современного искусства на Мэдисон-авеню, нет неудачников. Проигравшие и неудачники живут дальше, начиная от Восьмидесятой Восточной. Их не интересуют выставки Манхэттена, где швейцары похожи на генералов, а таксисты носят цилиндры. Гермес не рассылает приглашения в нищие районы, да и знакомых у него там нет. А в Гарлем белые больше не ходят. Причем давно.
Я не спрашивала Гермеса, как давно. Он стыдится темных сторон безгранично любимого Большого Города. Тут для него пуп земли, средоточие всемирной культуры и эпохи.
Потрясений не прошло. Я привезла с собой лицо убитого. Оно терзает меня в бессонные ночи, не дает сосредоточиться днем. Хотя время между убийством и сегодняшним вечером у меня было плотно занято, мертвое лицо вспыхивает в памяти в лифте гостиницы, входит со мной в аптеку, поздней ночью подкарауливает в номере. Мертвые глаза даже в этом зале напоминают о себе отблесками в хрустальных сосульках люстр.
Как же я ненавижу себя за то трусливое бегство…
* * *– Станнингтоны тебе не враги, Гая, ты сама увидишь, – убеждала меня девушка, притормозив машину на Стегнах.
Я молчала и думала: почему она остановилась именно тут, на улице Сицилийской? Ответ опередил вопрос:
– Я тут выхожу. Дальше сама справишься. – На меня еще раз глянули огромные глаза отрока Мурильо. – Отсюда до Садыбы недалеко, дороги пустынные, а ты уже вполне пришла в себя.
Барракуда даже знала, где я живу.
– Держи! – В мою ладонь сунули измочаленный конверт с обрывком газеты. – Для всех будет лучше, если этого объявления на жмурике не найдут.
Я не спросила, кто эти «все».
– Твои шузы я сама выкину, не дай бог пожалеешь их выбросить! – распорядилась она, держась за ручку дверцы. – Езжай прямо домой, и чтоб никаких глупостей по дороге. Ментам ни слова, не то по уши нахлебаешься допросов и расспросов и не Штаты получишь, а хренушки. А в Ориле и без тебя уже полно мусоров. Они сделают все, что могут, то есть кот наплакал. Не позволяй себе жизнь уродовать.
Меня не надо было убеждать. Я должна была приехать в Нью-Йорк вовремя, не то пришлось бы платить неустойку по контракту. И билеты на самолет, и мой вернисаж! Ни финансово, ни морально я не могла подвести людей. Такой шанс у меня был впервые в жизни. А мне уже сорок три года.
Утром я села в самолет.
Вместе со мной в Америку отправилась тень убитого и накрыла собой огромный Нью-Йорк.
* * *В наших маленьких зальчиках все больше народу.
Интересно, с каких это пор все боятся переходить невидимую границу Сто двадцатой Восточной? Во времена моего детства, когда мы с матерью угнездились в Ист-Сайде, дальше Сороковой Восточной (где дома кишели одинаковой серой нищетой итальянцев, поляков, евреев и китайцев), мы не боялись негритянских районов.
Я, маленький звереныш из ограбленной, униженной, изнасилованной Европы, еще не воспринимала нью-йоркскую жизнь как нищету. Я ведь ровесница войны, мне было столько же лет. С тех пор как себя помню, мы всегда были совсем нищими. Сыта я не бывала.
Когда же это случилось?
В другой жизни. Вчера. На чужой планете. Здесь. Тогда меня звали не Гая, а Ядька, а иногда, с презрением, – польская дура, Polish fool. Даже в самых причудливых снах (да и не было у меня таких снов!) я не представляла себе, что много лет спустя на Мэдисон-авеню устроит мой вернисаж Гермес, один из самых богатых владельцев галерей прикладного искусства.
Американец греческого происхождения, пятое поколение беглецов с Ионического моря. Над Гудзонским заливом они обрубили свои греческие корни, как позорное клеймо.
Неграмотным горцам с Пелопоннеса Греция напоминала о нищете, которая выгнала их искать лучшей доли. А бедность в Америке – позор. Она означает, что ты не сумел стать победителем, не завоевал своего места под солнцем. Значит, ты чокнутый, разиня или неудачник. Парадокс. Наследники величайшей культуры, неграмотные, лишенные сознания своего наследия, они старались воплотить в жизнь Великий Американский Миф. Их привлекал чужой этнос, этнос лучших – оправдывал своих предков Гермес, объясняя мне свое греческое имя. Он уже не стыдится быть греком, он без комплексов.
С Гермесом я познакомилась в Варшаве.
Сперва прибыл авангард, гонец и шпион антиквара с Мэдисон-авеню.
– Гастон, – представился тощенький французик с физиономией обиженной макаки.
Мне и в голову не пришло, что тот самый великий Гастон, искусствовед, божественной властью своего пера творящий кумиров в колонке ведущего парижского журнала. Добросовестный авгур, почти не обращающий внимания на конъюнктуру.
Светило посмотрело мою выставку в Кордегардии. Два раза повторялось слово remarqu able – выдающееся. Не успела я привыкнуть к новой роли гения, открытого на Краковском Предместье, как светило потребовало показать остальные работы, купило один гобелен, торгуясь, как финикийский работорговец, – и пропало, будто вовсе не бывало.
Потом пришел желтый конверт из редакции французского журнала. В конверте была газета с двумя колонками текста о моих домотканых гобеленах. Рецензия теплая. Как овечья шерсть-ровница, из которой я тку ковры. Гастон оказался лишь вестником с Олимпа. Следом явилось и божество.
– Я Гермес.
Чтобы остаться неузнанным, греческое божество носило изысканно потрепанные джинсы, а на ногах вместо крылатых сандалий красовались голландские сабо. Выдавала его голова в ореоле бледно-золотых локонов, профиль с фризов Парфенона и телосложение статуй Праксителя.
Я как раз стирала.
Волосы раскиданы по плечам, потная ненакрашенная морда, старые портки… мне стало стыдно за себя в присутствии этой прекрасной юности. Я что-то смущенно забормотала по-английски. Он ужасно обрадовался: как всякое божество, он бегло говорит на нескольких языках, но польского все-таки не знает. По моему поведению Гермес понял, что его имя для меня – пустой звук.