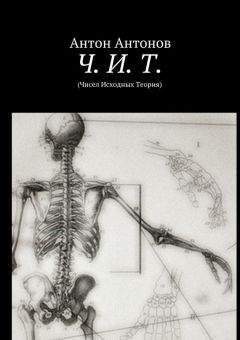Даниэль Пеннак - Людоедское счастье
(Честно говоря, я тоже не думаю.) Заглядываю через плечо в блокнотик тети Джулии и вижу, что она больше ничего не записала. Когда я снова включаю уши, медноголовый Леонар рассуждает об иммиграции, «которая давно уже перешла все допустимые пределы», и перечисляет проблемы, возникающие в связи с этим бедствием, «как с точки зрения экономики, так и образования, не говоря уже о безопасности граждан и, в частности, о безопасности наших дочерей».
Одно из двух: либо этот тип не любит арабов, либо он ни на грош не доверяет своей дочери. В любом случае Хадуш переломал бы ему все запястья. Я позволяю себе отвлечься и окидываю взглядом публику. Публика самая что ни есть отборная, с той привычкой к богатству, которая дается многовековой практикой всесторонне обдуманных браков. В основном женщины – мужчины остались в офисах. И опять, не знаю почему, это наводит меня на мысль о Лауне, о Лоране, об их встрече. Ей было девятнадцать, ему – двадцать три; она спускалась по лестнице в метро, он поднимался. Ее только что бросил один чувак, который предпочитал отвлеченные идеи, а он шел сдавать конкурсный экзамен в интернатуру. Он увидел ее, она – его, и Париж остановил свое коловращение. Он не пошел на экзамен, и в течение года они не выходили из комнаты. Я таскал им сумки со жратвой и с книжками. Потому что они все-таки ели, и даже с аппетитом. И в промежутках между своими межзвездными путешествиями читали друг другу вслух. Иногда даже во время, доказывая тем самым, что одно другому не помеха. Скажите, милые дамы, кто из ваших мужей 986-й пробы плюнул ради вас, ради любви, на важный экзамен, на год учебы, на будущие доходы? Есть такой?
Ладно, Малоссен, не увлекайся, посмотри лучше – на сцене кое-что меняется. Плешивый Леонар сел наконец, предоставив слово другому профессору (за столом-то, оказывается, сплошь профессура!). Когда тот встал, я чуть не упал со стула – такой разительный получился контраст. Насколько Леонар плотен, блестящ, закончен, агрессивен, настолько этот новый, который представился как профессор Френкель, гинеколог и акушер (фамилия вроде бы и в самом деле известная в этих кругах), – настолько этот самый Френкель изможден, хрупок и нелеп. Глядя на его чудовищную худобу, узловатые руки, его торчащие на все четыре стороны света космы, его взгляд ребенка, удивленного на всю оставшуюся жизнь, можно подумать, что это не человек, а наскоро слепленное создание какого-то накурившегося травки Франкенштейна, доброе и беззащитное, пущенное во враждебный мир, который только и думает, как бы его обидеть.
– Я не буду говорить о политике, – заявляет он в свою очередь (но ему я, как ни странно, верю). – Я подойду к этому вопросу с позиций Священного Писания и учения отцов Церкви.
И в одну-единственную фразу, которая, однако, растягивается у него на добрые четверть часа, так что вся аудитория тихо засыпает, он ухитряется всадить все: и грешную плоть, которая подлежит отсечению, и верблюда, и игольное ушко, и первый камень тому, кто без греха, и «блаженны нищие духом», и «приведите ко мне малых сих»… И заканчивает он цитатой из святого Фомы или какого-то другого святого: «Лучше родиться больным и убогим, чем не родиться вовсе».
И тут разражается скандал, как написали бы в газетах.
Крупная блондинка из второго ряда, которую я раньше не заметил, закутанная в какой-то немыслимый древневавилонский мех, вскакивает с места, как античная фурия, сует руку в фирменную сумку, выхватывает оттуда нечто бесформенное, сочащееся кровью, и швыряет изо всех сил в оратора, пронзительно визжа:
– Держи, старый дурак, вот тебе грешная плоть!
С каким-то влажным свистом эта штука летит над головами публики и ударяет в грудь Френкеля. Мутная кровь брызжет на почтенную профессуру, сидящую за столом. Лицо Френкеля уже не выражает, а воплощает страдание. А Леонар с рычанием и с проворством ягуара лихо перекидывает свои шестьдесят годков через стол и с горящим взглядом бросается на блондинку, выставив когти вперед. Блондинка буквально взлетает на стул, широко распахивает свою шубу и кричит:
– Руки прочь, Леонар, я заряжена!
Леонар застывает на лету, а профессура испускает крик ужаса. Распахнув шубу, блондинка демонстрирует самое роскошное тело беременной женщины, о котором только может мечтать защитник рождаемости. Голая с ног до головы, полная цветущей полнотой, налитая, как воздушный шар, она воплощает плодородие во всей его космической мощи.
Своим почерком девочки-отличницы тетя Джулия записывает, что профессор Леонар познакомился с диалектикой.
Позже, в ее малолитражке, вспоминая окропленную телячьей кровью скорбь Френкеля, я высказываюсь в том смысле, что блондинка неправильно выбрала цель: требуху надо было швырять в Леонара, потому что настоящий гад – он. Джулия смеется:
– Я думала, Малоссен, что ты пошел в козлы отпущения из мазохизма, а ты, оказывается, просто святой.
Что ж, допустим.
Святой просит высадить его у дверей Магазина, входит внутрь и принимается бродить по проходам первого этажа. Кого-то он ищет. Кого-то вполне определенного, кого обязательно нужно найти. Срочно. Семь часов вечера. Надеюсь, он еще не слинял. Господи Боже, сделай так, чтобы он еще не ушел! Пожалуйста, я же никогда ничего у тебя не прошу. Ты, наверно, никогда обо мне и не слышал. Исполни мою просьбу, жалко тебе, что ли? Спасибо! Вот он. Сворачивает в отдел шерстяного трикотажа. В отделе ни души. Блеск! Ускоряю шаг, и вот мы встречаемся.
– Привет, Казнав!
И закатываю ему апперкот в печень, классический, вкладывая в удар всю тяжесть тела (научился по книжкам). Он сгибается вдвое, и я едва успеваю отскочить, чтобы он не заблевал мне ботинки – пусть блюет на свои. (Основная трудность со святыми в том, что их святости, как правило, не хватает на весь день.)
С сознанием исполненного долга спускаюсь в отдел «Сделай сам», где Тео, как обычно по вечерам, шмонает своих стариков. Они послушно стоят в очереди на обыск, и ни один не пытается протестовать, когда Тео извлекает из карманов их халатов наворованное за день.
– Привет, Бен! Ты что, и по выходным теперь ишачишь? То-то Сенклер обрадуется!
Я преподношу ему фотографии, снятые Кларой в Булонском лесу, и помогаю разложить по местам украденное барахло.
– Представляешь, тут один недавно целый день болтался с пятью кило гербицида в карманах!
19
На следующей неделе тетя Джулия и Клара начинают делать репортаж о козле отпущения. Со своей стороны я лезу из кожи вон. Таким жалким, прибитым, плаксивым я еще никогда не был – половая тряпка на грани самоубийства. Абсолютно все жалобщики забирают обратно свои телеги и чуть ли не выплачивают мне премиальные. Они приходят, преисполненные законного негодования, а уходят с твердым убеждением, что, несмотря на все их прошлые, настоящие и будущие невзгоды, избегли худшего, потому что сегодня они соприкоснулись с современной версией сказки Гофмана – несчастьем, принявшим человеческий облик. И на каждом этапе этого пути самопознания по кругам Магазина их подстерегает объектив Клары. Клара запечатлевает их ярость в момент, когда они распахивают двери бюро Лемана, Клара фиксирует все фазы их преображения внутри означенного бюро, Клара увековечивает печать подлинного человеколюбия на их лицах, когда они выходят оттуда, просветленные. И Клара же фотографирует Лемана и меня, хохочущих как законченные мерзавцы (каковыми мы и являемся), после того как игра сыграна. И при этом я ни разу не видел у нее в руках аппарата!
Тетя Джулия, которая вначале сама наблюдала за тем, как я выполняю свои служебные обязанности, теперь работает только по фотографиям моей сестрички. Для нее они стали более ощутимой реальностью, чем сама реальность. Она исписывает тонны бумаги по мере того, как поступают новые снимки. В ее обращении с Кларой забавно сочетаются материнская растроганность и профессиональное восхищение. Она ее духовно удочерила как порождение своих самых далеко идущих амбиций.
Теперь по вечерам, когда я преподношу ребятам очередную порцию вымысла, у меня две секретарши: Тереза за своей машинкой, нанизывающей слова, и тетя Джулия со школьной тетрадочкой. Фотографии, которые Клара делает дома, чуть хуже, чем остальные.
– Не сердитесь, тетя Джулия, у меня голова не в ту сторону повернута, я слушаю рассказы Бена.
Тем временем на теле Джулиуса вырастают все новые и новые трубочки. Одни входят, а другие выходят: вода, плазма, витамины, бычачья кровь с одной стороны, моча и дерьмо – с другой. Лоран делает все возможное, как и обещал. Но Джулиусу все это до лампочки. По-прежнему, с метафизическим упрямством, он показывает миру язык, ощерив пасть со смертоносными клыками. Иногда по ночам у меня возникает ощущение, что в моей комнате угнездился некий апокалипсический паук, особенно в полнолуние, когда мертвенный свет удлиняет изломанные тени его исхудавших ног.