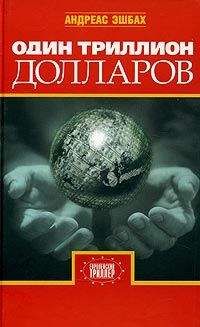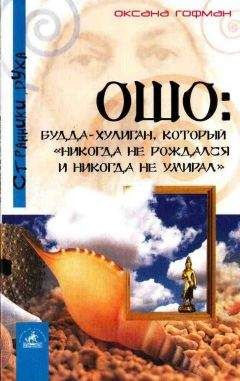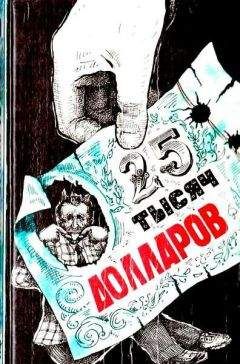Елена Кассирова - Пирожок с человечиной
Костя считал, что Нинка при деле и страдать ей некогда.
Можно было сходить с ней еще раз в «Патэ&Шапо» и поговорить о том о сем.
На повестке дня стоял человеческий подход. Касаткин продолжал нести крест служения.
В Крестопоклонное воскресенье 14 марта Костя отправился в Покрова.
Отец Сергий давно интересовал его. Вел он себя странно.
Ушинская рассказывала Косте о нем. Сереженька Сериков, Кучин и Антошенька в школе дружили. Но Антошка лентяйничал, Кучин егозил, а Сереженька был тихоня. После уроков сразу на автобус. Жил Сериков за Юрловкой. Но это за МКАД рукой подать. Живет там и сейчас. Говорят, возродил артель, варит свечки. Всегда был себе на уме.
Прекрасно, думал Костя, что добыл о. Сериков митинскую Покрова. Но старался он, по всему, не для паствы. Чем же он занимался?
Все эти «миссионеры» лезли из кожи вон, чтобы заманить людей. Канава раздавал старцам белые маечки и соблазнил даже подростков возможностью посидеть вечерком в раздевалке, как в клубе. Хаббардиане дарили школе вредные карандаши и бобковскому ДЭЗу просроченную тушенку. А отец Сергий вместо службы Богу и людям служил мамоне и покойникам.
В результате Митино тайно медитировало.
Началось было недавно строительство на плешке нового храма – митинцы написали протест. Не захотели беспокойства от колокольного звона. На плешке по-прежнему выгуливали собак.
Отец С. Сериков остался один на все Митино духовный хозяин.
В сумерках к Покрова подъезжал грузовик. О. Сергий с шофером выкатывал из машины крытые контейнеры, заталкивал по пологому скату сбоку в подвальные темноты.
А весь его приход составляли книжный червь Жиринский, да Поволяйка с Опорком как папертные нищие по призванию, да двое-трое случайных «похоронщиков» и старых грымз, которые всегда там, где хоронят.
В том же составе прошла и воскресная служба. Жиринский стоял ссутулившись и не повернул к Косте
головы, Нюрка в красной кофточке важно собирала огарки, и почему-то присутствовал тот же Кучин. Костя предположил, что торгаш зашел к о. Сергию по старой памяти.
Временами откуда-то несло гнилью, словно кладбище не рядом, а здесь.
Не белёные еще стены, несмотря на новые иконки, выглядели сиротливо. Но и это было красиво, да еще звездочками искрились всюду свечки, которые Поволяйка с деловитым видом меняла.
После литургии было отпевание с группкой чужих. Костя подошел под благословение. О. Сергий благословил так же, как исповедовал утром, – ни слова не говоря. Сам он был тщедушен, с пушком на щеках и вислыми прядками на ушах, а рука – жесткой и красной и ногти с черной каймой.
Искать повода для беседы Костя не стал. Батюшка и без беседы был как-то весь налицо. Не духовный отец, а свечевар. Что ж, тоже, в конце концов, дело. И потом, на вечер Костя назначил свидание Капустнице. В воскресенье «Овощи» работали до шести. Договорились, что он подгребет прямо к магазину.
Домой к Нинке идти не хотелось. Она только-только купила двуспальную кровать.
В «Патэ» в Матвеевское Костя тоже решил не ехать. Хватит лангустов. Наметил он посидеть с Нинкой в Митино в «Махарадже». Еда там была тяжелая. Все, включая кофе, отдавало кардамоном. Он отшибал флирт. Едоки предпочитали разговаривать.
Назначая Нинке свидание накануне вечером, Костя пришел к ней в тапочках и, сказав, что Катя ждет с супом, был краток.
Нинка робко любовалась им, не умея удержать.
Уходя, он чмокнул ее.
Нинкины щеки, прежде шероховатые, стали теперь гладкие-гладкие. Стараясь нравиться Косте, она мылась, наверно, нечеловеческим мылом. Таких нежных щек он не целовал никогда. Что это за косметика, спросить Костя не смел. Вспомнил только, что в Освенциме из людей варили очень дорогое мыло для дам. Костя чмокнул Нинку для проверки в другую щеку. Потрясающе! Ее кожа была нежней нежного. Казалось, целовали не его губы, а ее щека. А может, и не мыло, а надежда умягчила наждачку. Это было другое лицо.
У Кости вдруг забилось сердце. Ради него Нинка творила с собой чудеса. Все же это было прекрасней «человеческого подхода». Костя опять, как в октябре, чуть было не влюбился в Капустницу. Но нет, спокойно. Сперва разобраться.
От нетерпения он подкатил к магазину пораньше и до закрытия стоял в «Хоэтоварах». Лежали продукты, видимо, гаврилинского производства – канцелярский клей, свечи и мыло, хозяйственное и детское.
Костя купил детское и, вернувшись в машину, в оставшееся время изучил вдавленные в мыло буквы. На коричневатом боку стояло: «ТОО Гавмыло». Пахло Нинкой.
Значит, вот где сбыт у сериковской артели. Что ж, нормально.
В пять минут седьмого Костя вышел из машины и дернул магазинную дверь. Закрыто. Левая овощная витрина светилась. Он глянул в стекла.
Нинка, в своем белом продавщицком кокошнике в волосах и рабочем халате, сидела на подоконнике, спиной к окну. За прилавком справа – вторая продавщица, Зоя, мамаша погибшего пэтэушника, за другим прилавком, напротив окна, – Кучин с бланками.
Костя тихонько стукнул ногтем по стеклу. Первыми подняли головы Кучин с Зоей. Глядя на них, оглянулась Нинка. Костя мигнул. Но Нинка отмахнулась и опять повернулась спиной. Костя опять стукнул. Нинка нехотя обернула гладкую щечку, глянула зло и махнула уже с силой, дескать, пшел вон. Костя, не поверив, повторил ее жест и, четко артикулируя, спросил: «Совсем?» Нинка кивнула и отвернулась окончательно.
Снова подняли головы Кучин с Петраковой. Петракова хоть и была хмурая, но улыбнулась. Кучин вежливо раздвинул губы, поднял ладонь и приветственно пошевелил пальцами.
Костя сел в машину и поехал к дому. «Тоже мне, фрукты, – мысленно злился он. – Одна капуста на уме». Универсам в воскресенье тоже закрылся рано, народ разошелся по домам, вокруг никого не было.
Костя приткнул машину у подъезда, огляделся и вернулся к магазину. Свет в витрине троица притушила и переместилась в заднюю служебку. Костя пошел к церкви. Кажется, все ушли. Дверь заперта.
«Еще один фрукт», – процедил Костя. Он зашел сбоку – из боковой дверки пробивался слабый свет. Щеколда с замком были с совхозных времен. Два шурупчика от петли поддались ножевой отвертке-звездочке. Сперва с трудом, потом сразу выскочили. На лестнице вниз как рельсы лежали два лага и горела пятнадцативаттная лампочка. Костя спустился в подвал. Запах гнили, в храме ощутимый слегка, здесь шибал в нос. Стояло десятка два контейнеров, набитых капустой. В крайнем, сверху в углу, один кочан был странный. Беловатый с синевой.
Костя присмотрелся, не веря. Между кочанами лежала человеческая голова, лицом вдавленная в контейнерную решетку.
Костя судорожно вдохнул и шагнул ближе.
Мертвое лицо выглядело нормальным, спящим, грустным. Красивые усики легко узнавались. Это был Антон Ушинский, верней, остаток его. Голову снизу и сбоку обложили кочаны. Отставший капустный лист прикрывал, как шапочка-сванка, макушку.
Костя постоял секунд тридцать и упал.
24
СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО В ДЕРЬМЕ – СОЛОМИНКА РАССУЖДЕНИЯ
Что случилось дальше, можно было предвидеть.
Как в тот вечер он дошел до дома и вызвал милицию, Костя не помнил. Чем занимался на другой день, в понедельник, тоже. Впрочем, ничем. После всех осенне-зимних бурь нервы художественной натуры отказали. Наступил обыкновенный шок.
Костя лежал, смотрел в потолок и не отзывался. Катя подходила иногда с мисочкой жидкой каши и вливала ложку ему в рот, но струйка выливалась обратно.
Пришла Мира Львовна, оттянула Косте веки, посмотрела, ласково ущипнула за щеку и сказала Кате:
– Ничего, киска, страшного. Очнется, пусть пьет боягышник.
Очнулся он на третий день, в среду под вечер, когда в дверь поскреблись.
– Кыся! – прохрипел кто-то.
– Меня, что ль? – удивилась Катя и пошла открыть.
– Меня, – сказал Костя.
Катя открыла. В щелку между ней и дверью мелькнула красная кофточка.
– Нюра… – сказала Катя, но Поволяйка кинулась наутек.
Отлежавшись, Костя ожил сверх меры. Свежая голова заработала как никогда. Но есть он все равно не мог и голода не чувствовал. Как йог, сжевывал раз в день орех и кружок лимона. А в общем, жил на очень сладком чае.
Какого черта он поехал в митинскую глушь? Сидел бы в Доме на набережной, смотрел бы на Кремль. Прав он был тогда, сказав Кате: «У меня – гадюшник, а у тебя – свинарник».
Все было погано. Люди ненавидели его, газеты оплевывали, ближние избегали. Катя из-за него лишилась работы, Нина страдала. Поволяйка стала отвратна пьяным кокетством. И, хуже всего, в его жизнь вошел криминал.
Костя спасался, рассуждая. Только тогда он переставал бредить жутким видением в овощном контейнере.
Сидел он один. Катя где-то бесцельно слонялась, делая вид, что взялась за хозяйство.
В коридоре стало непривычно тихо.
Шумная Мира челночила из больницы в ЛЭК, Бобкова крутилась в домуправлении, Ушинская и Кисюха со страху бежали ни свет ни заря – Ольга в школу, Кисюха по магазинам.