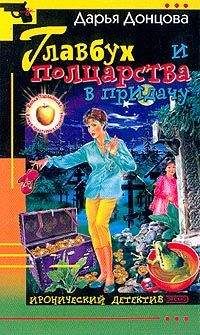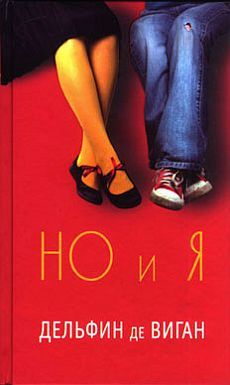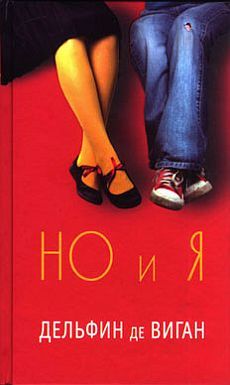Основано на реальных событиях - де Виган Дельфин
Л. не откладывала никакие встречи: все происходило непосредственно в данный момент или не происходило вовсе. Л. жила «сейчас», как если бы все могло в тот же день прекратиться. Л. никогда не говорила: «созвонимся, чтобы договориться о встрече» или «попробуем встретиться в конце месяца».
Л. была доступна тотчас же, без промедления. Раз достигнутая договоренность не требовала подтверждения.
Я восхищалась ее решимостью и, думаю, ни у кого не встречала подобного ощущения момента. Л. с давних пор знала, что для нее существенно, в чем она нуждается и то, чего ей следует избегать. Она провела некий отбор, который позволял ей без обиняков заявлять о своих приоритетах и вычленить тревожные элементы, которые она решительно исключила из своего периметра.
Ее образ жизни – насколько я могла заметить – представлялся мне выражением внутренней силы, какой обладают немногие. Как-то Л. позвонила мне в семь утра, потому что только заметила, что у нее вышел из строя цифровой диктофон. А на восемь тридцать у нее была назначена встреча с женщиной-политиком, с которой она как раз начала работать. Л. не могла рассчитывать, что ей повезет найти открытый в такое время магазин, поэтому хотела знать, могу ли я одолжить ей свой. Полчаса спустя мы встретились за стойкой кафе. Я смотрела, как она переходит улицу, следила за ее такой ровной, такой уверенной, несмотря на высокие каблуки, походкой. Заколотые наверх светлые волосы подчеркивали длину шеи и то, как изящно посажена ее голова. Она казалась погруженной в свои мысли. Как переставлять ноги одну за другой, совершенно очевидно, заботило ее меньше всего. (Для меня это порой представляет наибольшую трудность.) Когда она вошла, все головы повернулись в ее сторону, она вела себя так, что не заметить ее было невозможно. Я прекрасно помню этот момент, потому что подумала о следующем: сейчас семь тридцать утра, а у нее все в порядке. Ничего смятого или скомканного, каждый элемент ее личности находится на своем месте. При этом в Л. не было ничего застывшего или искусственного. Ее щеки слегка порозовели от холода или от прикосновения румян натурального цвета, ресницы едва подкрашены тушью. Она улыбнулась мне. От нее исходила подлинная чувственность, что-то сродни непринужденности, легкости. В моих глазах Л. воплощала таинственную смесь живости и торжественности.
Я уже давно свыклась с мыслью, что не вхожу в число безукоризненных, безупречных женщин, какой всегда мечтала быть. У меня вечно что-то топорщится, задирается или свисает. Волосы у меня странные: одновременно жесткие и курчавые, помада не держится на губах дольше часа, а глубокой ночью неизбежно наступает момент, когда я тру глаза, забыв, что не смыла тушь с ресниц. Стоит мне отвлечься, я натыкаюсь на мебель, оступаюсь на лестнице и любой неровной поверхности, ошибаюсь этажом, возвращаясь домой. Я приспособилась к таким вещам и многому другому. Лучше посмеяться над собой.
Однако тем утром, глядя на Л., я подумала, что мне стоит многому у нее поучиться. Если бы я дала себе труд понаблюдать за ней, возможно, мне удалось бы уловить что-то, что всегда от меня ускользало. Пообщавшись с ней поближе, я бы поняла, как у нее получается одновременно воплощать в себе изящество, уверенность и женственность.
Мне потребовалось десять лет, чтобы научиться держаться прямо, и почти столько же, чтобы встать на каблуки, может, однажды, и я стану такой женщиной.
В то утро Л. сидела на табурете совсем близко от меня. На ней была прямая, довольно узкая юбка, я могла разглядеть вырисовывающуюся под тканью мышцу ее бедра. На ногах темные шелковистые колготки. Я восхищалась ее осанкой, которая подчеркивала округлость ее грудей, угадывающихся под блузкой; ее манерой расправлять плечи – ровно настолько, насколько нужно, чтобы это казалось естественным, почти беззаботным. Я подумала, что мне следовало бы научиться держаться вот так. А еще ноги: одна закинута на другую, несмотря на узкую юбку. Л. уверенно сидела на барном стуле, это выглядело неподвижной хореографией, обходящейся без музыки и притягивающей взгляды. Можно ли воспроизвести ее при отсутствии благоприятной предрасположенности?
Было семь тридцать утра, я попросту приняла душ, влезла в джинсы, свитер и ботинки и запустила пальцы в волосы, чтобы пригладить их. Л. взглянула на меня и опять улыбнулась.
– Я знаю, о чем ты думаешь. И ты ошибаешься. Между тем, что ты чувствуешь, как ты себя ощущаешь, и тем, как ты выглядишь, существует большая разница. Мы все несем на себе след того взгляда, который упал на нас, когда мы были детьми или подростками. Мы несем его на себе, да, как пятно, которое лишь немногие могут видеть. Когда я смотрю на тебя, я вижу вытравленную на твоей коже печать насмешек и сарказма. Я вижу, какой взгляд упал на тебя. Ненавидящий и недоверчивый. Острый и суровый. Взгляд, под которым трудно построить свою личность. Да, я его вижу и знаю, откуда он исходит. Но, поверь мне, мало кто это улавливает. Мало кто способен распознать его. Потому что ты очень хорошо это скрываешь, Дельфина, гораздо лучше, чем тебе кажется.
Л. почти всегда попадала в точку. Даже если в ее устах все зачастую выглядело более драматично, чем было на самом деле, даже если она по своей привычке все смешивала, в ее словах всегда была истина.
Казалось, Л. знает обо мне все, хотя я ничего не рассказывала.
Пока я пытаюсь объяснить, как я привязалась к Л., обозначить этапы этой привязанности, у меня в памяти всплывает другой момент, относящийся примерно к тому же времени.
Как-то мы отправились на выставку, выбрав вечер, когда музей работает допоздна. Затем в ближайшем кафе заказали по горячему сэндвичу с ветчиной и сыром. Шел проливной дождь, и мы подождали, пока он закончится. Когда мы вошли в метро, было уже довольно поздно. Мы уселись рядом на откидных сиденьях, возле дверей. Народу было много, но не настолько, чтобы нам надо было вставать. Вошел мужчина. И женщина, которая тут же вцепилась в центральную стойку прямо перед нами. Вцепилась, именно это слово пришло мне в голову при виде ее. Казалось, она с трудом держится на ногах. Мужчина был старше ее. Он тотчас продолжил монолог, который, судя по всему, начал еще на перроне. Говорил он громко, так что добрая половина вагона могла его слышать. Женщина стояла с опущенной головой, немного сгорбившись. Мне было сложно разглядеть ее лицо, зато я видела, как сгибается ее тело под словесным натиском. Мужчина упрекал ее в том, как она вела себя на ужине, с которого они только что ушли. Взбешенный, с гримасой отвращения на лице, он выкрикивал обвинения, словно произносил политическую речь: ты ведешь себя, как бедная девочка, ты ешь, как бедная девочка, ты говоришь, как бедная девочка, мне за тебя стыдно (я записываю почти слово в слово, надеюсь, я ничего не забыла, так я была потрясена жестокостью мужчины и публичным унижением, которое он нанес женщине). Пассажиры отодвинулись, кое-кто пересел. Мужчина, нисколько не смягчившись, продолжал:
– Ты одна ничего не поняла, Магали, все были озадачены, да-да, все спрашивали себя: да какого черта он делает с этой девицей? От тебя разит дискомфортом, а что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, это всех пугает. Я даже ничего не сказал, когда ты принялась распространяться про свою работу, неужто ты думаешь, что людей может интересовать жизнь бедной училки? Да всем плевать, абсолютно всем плевать. Думаешь, это кого-то интересует?
Л. смотрела на мужчину, но не украдкой, как все остальные, а откровенно, не таясь. Л. подчеркнуто наблюдала за ним, как в театре, подняв к нему голову. Она стиснула зубы, щека снова пульсировала, и на ней порой появлялась уже знакомая мне вмятинка.
– Как ты стоишь, смотреть невозможно, будто горбунья. Ах, ну да, я и забыл, ты ведь несешь на своих плечах мировую скорбь, Магали, ха-ха-ха, разгружаешь чужие плечи, например мои, как же ты хороша! Мадам несет все тяготы мира, а господь знает, каковы они: тех, чьи родители незаконны, тех, чьи родители потеряли работу, тех, у кого чокнутые родители, что делать, но внимание: каждый день в шестнадцать тридцать после хорошего полдника мадам успокаивается! Да ты себя видела, Магали? Тебе не хватает не только блузки от «Труа Сюис», можно подумать, ты домработница.