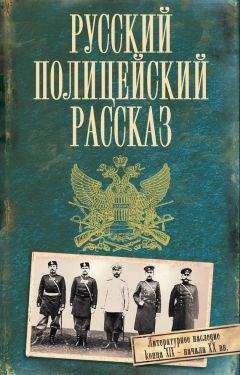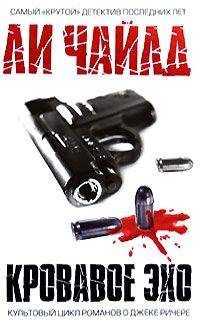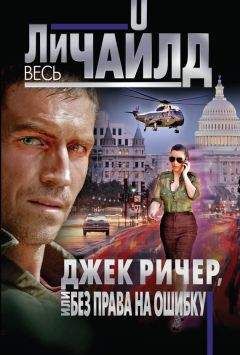Коллектив авторов - Английский детектив. Лучшее за 200 лет (сборник)
Относительно объекта убийства я предполагаю, что это человек добродетельный – будь иначе, он и сам может в ту же минуту обдумывать убийство. В этом случае убийца и жертва способны потягаться друг с другом – «алмаз алмазом гранится, плут плутом губится», – и, за неимением других, за ними можно не без удовольствия наблюдать, но называться убийствами такие столкновения, по мнению взыскательного критика, не достойны. Я мог бы упомянуть кое-кого из тех (без имен, разумеется), кто был найден мертвым в темном закоулке, и все в этом убийстве выглядело достаточно пристойно. Но, при дальнейшем изучении, становилось ясно, что жертва как минимум планировала ограбить будущего убийцу, а то и лишить жизни, если тот вздумает сопротивляться. В таких случаях – или тех, для которых можно предполагать нечто подобное, – о подлинных достоинствах нашего искусства остается позабыть. Убийство как искусство призвано, подобно трагедиям Аристотеля, «очищать сердца посредством жалости и ужаса». Ужас здесь имеет место быть, но о какой жалости идет речь, когда хищник умерщвляет хищника?
Очевидно также, что избранная жертва не должна быть человеком публичным. Так, никакой здравомыслящий художник не стал бы убивать Авраама Ньюлэнда[39]. Дело в том, что об Аврааме Ньюлэнде каждый читал, но почти никто его не видел воочию, так что он из человека превратился в некий отвлеченный символ. Помню, однажды, когда я упомянул, что обедал с Авраамом Ньюлэндом в кофейне, присутствующие окатили меня презрением – будто я хвастался, что играл в бильярд с Пресвитером Иоанном или дрался на дуэли с Папой Римским. Вот, кстати, Папа Римский был бы весьма неподходящей жертвой: он незримо присутствует повсюду как глава христианского мира, однако, словно кукушку, его часто слышат, но никогда не видят – полагаю, для большинства людей и он не более чем абстрактная идея. Иначе случается, если общественный деятель имеет обыкновение давать обеды «с богатым выбором изысканных блюд по сезону»: тут любой признает в нем человека, а не абстракцию. В убийстве такой особы нет ничего неуместного – разве что я еще не коснулся убийств политических как таковых.
В-третьих. Избранник должен быть абсолютно здоров: было бы совершенным варварством убивать человека хворого, который не в силах перенести испытание. Следуя этому принципу, нельзя избирать в качестве жертвы простолюдина старше двадцати пяти лет – все они страдают расстройством желудка. Или, когда напало желание поохотиться именно на них, придется убить хотя бы пару за раз, если же эти простолюдины занимаются портняжным ремеслом, для поддержания репутации и согласно старому уравнению, – лишить жизни аж восемнадцать[40]. Мы можем наблюдать здесь видимое воздействие искусства, которое, как известно, успокаивает и очищает чувства. Мир как он есть, господа, весьма жесток; все, что требуется от убийства, – обильные кровопускания, толпе достаточно их живописного вида.
У просвещенных ценителей вкус куда более развит; искусство нашего рода, подобно другим изящным искусствам, постоянно совершенствуясь, ведут к исправлению и смягчению сердец. Справедливо замечено, что
Ingenuas didicisse fideliter artes,
Emollit mores, nec sinit esse feros[41].
Мой друг философ, известный добряк и филантроп, полагает также, что у избранника должен состоять на попечении целый выводок малых детей для пущей трогательности момента. Это, несомненно, разумное замечание. Но я бы не настаивал на данном условии слишком усердно. Взыскательный вкус, бесспорно, требует его исполнения, однако все-таки, если человек не вызывает возражений с точки зрения морали и здоровья, я не стал бы слишком ревностно вводить ограничения, которые помешали бы художнику делать свое дело.
Но достаточно о жертвах. Что касается времени, места и оснащения, я мог бы сказать многое, однако не имею сейчас такой возможности. Богатый опыт практика обычно склоняет его к выбору ночи и тайне. Однако и эти правила в некоторых случаях удавалось обойти, получив притом превосходный результат. Относительно времени мы уже говорили о великолепном исключении, которым стало дело миссис Раскомб. Если же вести речь о времени и месте сразу, то в летописи Эдинбурга (1805 год) упоминается замечательный случай, известный в этом городе любому младенцу, но среди английских знатоков лишенный должной огласки. Я имею в виду дело банковского посыльного, который был убит средь бела дня на Хай-стрит, одной из самых многолюдных улиц Европы, когда нес мешок с деньгами, – и убийца до сих пор не известен.
Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus,
Singula dum capti circumvectamur amore[42].
А теперь, господа, в заключение позвольте мне снова торжественно отказаться от всех претензий на звание профессионала. За всю свою жизнь я не совершил ни одного убийства, исключая покушение на жизнь кота, совершённое мною в 1801 году, но и оно привело к абсолютно иным результатам. Я действительно намеревался совершить убийство. «Semper ego auditor tantum, nunquamne reponam?[43]» – спросил я себя и через час после полуночи отправился вон из дома, чтобы найти кота, душой и телом изображая убийцу. Отыскалась жертва в кладовой: кот совершал преступное деяние, воруя хлеб и прочую снедь. Это меняло дело: в то время повсюду царил голод, и даже добрые христиане вынуждены были перебиваться лепешками из картофельной и рисовой шелухи и тому подобного, так что кот, таскавший хороший пшеничный хлеб, не мог быть никем иным, как диверсантом. Казнить его было все равно что исполнить патриотический долг. Подобно Бруту, идущему во главе толпы патриотов, я воздел сверкающую сталь и нанес удар, а затем «громко чествовал Туллия, отца моего отечества»[44].
С тех пор все посещавшие меня идеи относительно лишения жизни дряхлой овцы, престарелой курицы и прочей мелкой дичи так и таились у меня в груди, однако для высших проявлений искусства я, призна́юсь, оказался совершенно непригоден. Мои стремления не простираются столь высоко. Но, господа, как говорил Гораций: «Стану камнем точильным, придающим мечу остроту».
Чарльз Диккенс
Рассказ «Тринадцатый присяжный» был опубликован в рождественском номере альманаха «Круглый год» (1865), то есть формально он относится к историям о привидениях: на Рождество британские читатели привыкли получать как раз такое «фирменное блюдо». И призрак в рассказе действительно есть, более того, без него не удалось бы распутать преступление… Вот именно: распутать преступление. В общем, перед нами детектив, причем детектив, как сказали бы сейчас, судебный – хотя обстановка ранневикторианского суда такова, что словно бы погружает нас в исторический роман или даже этнографический очерк: достаточно вспомнить, как присяжные на все время судебного процесса и сами оказываются будто «в заключении», в одной комнате, так что даже постельные принадлежности им приходится расстилать прямо на столах, за которыми днем проводились заседания.
Не менее интересен и другой аспект. В целом ведь брезгливо-испуганное неприятие преступления и преступника – жизненная реальность той эпохи, очень высоко, до ханжества ценившей законопослушную благопристойность. Но здесь это чувство как-то уж слишком утрировано и доходит до иронии, даже самоиронии, скрытой от повествователя, однако очевидной для автора. А если учесть столь же утрированно подчеркнутую беспомощность следствия и суда, которые никак не смогли бы изобличить убийцу без прямой подсказки призрака, то ироничность становится еще более очевидной…
На эту версию работает и название рассказа, в оригинале – «умничающее», намеренно претенциозное: «To Be Taken With a Grain of Salt» (тут к тому же использована формулировка для особо грамотных современников, способных оценить перекличку с латинской пословицей «Cum grano salis») – нечто вроде «Принимай с частичным недоверием!».
А на какие случаи «спектральных иллюзий» ссылается Диккенс, точнее, все-таки его рассказчик?
«Происшествие с берлинским книготорговцем» было в его время хорошо известно: данная история произошла с Фридрихом Николаи, не только книготорговцем, но также писателем, издателем и вообще одним из «властителей дум» эпохи Просвещения, человеком замечательно трезвым, честным и до занудства правильным. При этом он внезапно испытал приступ бредовых видений (в прямом смысле слова подвергся «нашествию зеленых чертиков»), но сумел от него избавиться путем… постановки пиявок на ягодицы. Это бы полбеды, однако Николаи вышеупомянутую историю, включая детали излечения, с полной серьезностью описал и опубликовал, сопроводив назиданием «Делай как я!»
В принципе эпоха Просвещения могла бы воспринять подобное как должное, но, вероятно, «то бы слово да не так молвить», особенно в сочетании с репутацией литературного пуриста. Николаи немедленно получил от современников латинское прозвище «Proktophantasmist» (при всем желании подобрать цензурный перевод мы получим в лучшем случае «Жопофантаст») и немецкое «Steissgeisterseher» (а тут получится примерно «Жоповидец призраков», чуть ли не «Жопохотник за привидениями»). Гете создал на него пародийные строки в «Фаусте», Гофман – в «Золотом горшке», и даже во времена Диккенса вся Европа при упоминании этого эпизода не могла сдержать смех.