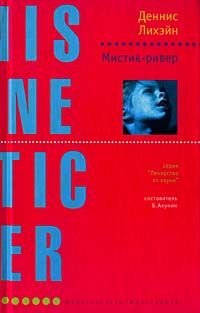Глоток перед битвой - Лихэйн Деннис
– Пат, старина, говорит Стерлинг Малкерн. Я понимаю, ты дома не сидишь, а зарабатываешь деньги, и это правильно, но не читал ли ты сегодняшнюю «Триб»? Этот милый мальчуган Ричи Колган опять вцепился мне в глотку. С него сталось бы обвинить и твоего отца – тот, мол, сам устраивал пожары, чтобы потом тушить их. Сущая чума этот Колган. Вот я и думаю: не мог бы ты, Пат, встретиться с ним и попросить – пусть хоть ненадолго оставит старика в покое? Но это так – мысли вслух. Мы заказали столик у «Копли» на субботу, на час дня. Не забудь. – Раздался гудок, и кассета начала перематываться.
Я уставился на автоответчик. Не могу ли я... встретиться... попросить... мысли вслух. И отца моего приплел очень кстати. Героический пожарный. Всеми любимый муниципальный советник.
Все знают, что мы с Колганом дружим. Поэтому люди относятся ко мне раза в полтора более подозрительно, чем могли бы. Мы с ним встретились, когда оба играли за сборную Массачусетского университета «Спэйс инвэйдерз». Сейчас Колган – ведущий обозреватель «Трибьюн» и в самом деле сущая чума для носителей одного из трех зол – лицемерия, фанатизма или же принадлежности к элите. Поскольку Стерлинг Малкерн воплощает в себе все три порока, Ричи раз или два в неделю с людоедским восторгом пляшет на его костях.
От Ричи Колгана все в восторге – до тех пор, пока не увидят его фотографию над статьей. Хорошее ирландское имя. Славный ирландский малый. Бичует зажравшихся, погрязших в коррупции партийных боссов в муниципалитете и Капитолии. И тут взгляд падает на его фотографию, и выясняется, что кожа у него – чернее ночи, чернее, чем душа злодея. Тогда оказывается, что Ричи гоняется за «жареными фактами» и делает из мухи слона. Тем не менее благодаря ему тираж растет. Его излюбленной жертвой всегда был Стерлинг Малкерн, которого он обвешал разнообразными обидными кличками вроде «безразмерного лицемера» или «гиподинамичного гиппопотама». Приходится терпеть – у нас в Бостоне, если хочешь заниматься политикой, нельзя быть чересчур чувствительным.
И вот теперь Малкерн хочет, чтобы я встретился с Ричи и «попросил оставить старика в покое». Что ж, назвался, как говорится, груздем... Но при следующей встрече с сенатором я произнесу небольшую речь, смысл которой будет сводиться к тому, что деньги – это, конечно, хорошо, но все же не главное, а потому нельзя ли не впутывать в наши с ним отношения моего героя отца?
А отец мой, Эдгар Кензи, двадцать лет назад прославился: правда, не слишком широко – в пределах нашего города – и не слишком надолго – минут на пятнадцать. Он покрасовался на первых полосах обеих наших газет и, более того, попал даже на последние страницы «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост». Фотограф едва не получил Пулитцеровскую премию.
Снимок и вправду был потрясающий – мой отец в черно-желтом скафандре с кислородным ранцем за спиной взбирается на стену десятиэтажного дома по веревке, связанной из простыней. За несколько минут до этого по той же веревке спускалась из горящей квартиры женщина. Спускалась – да не спустилась. На полпути она разжала руки, сорвалась и расшиблась насмерть. В этом краснокирпичном здании в прошлом веке размещалась фабрика, которую потом кто-то додумался перестроить под жилой многоквартирный дом; с тем же успехом перекрытия можно было ставить не из дешевой древесины, а из пропитанных бензином тряпок.
Женщина оставила своих детей в квартире, в панике приказав им лезть по простынному жгуту вниз следом за ней, хотя еще можно было выбраться наружу и по лестнице. Увидев распростертое внизу тело своей матери, похожее на сломанную куклу, они застыли в черном проеме окна, которое все гуще заволакивалось дымом. Под окном была автомобильная стоянка; пожарные не могли поставить выдвижную лестницу, пока не прибудет эвакуатор и не уберет машины. Мой отец тогда без лишних слов надел кислородный ранец, подбежал к свисающим простыням и начал подниматься. Когда он достиг пятого этажа, на уровне его груди лопнуло от жара оконное стекло: есть еще одна, немного смазанная фотография – он болтается в воздухе, а осколки отскакивают от его толстой черной куртки. В конце концов отец добрался до десятого этажа, схватил детей – четырехлетнего мальчика и шестилетнюю девочку – и начал спуск. «Ничего особенного», – говорил он потом, пожимая плечами.
Этот его поступок не забылся и пять лет спустя, когда он ушел на пенсию, – насколько я знаю, до конца дней своих он больше не платил за выпивку. По предложению Стерлинга Малкерна отец стал советником муниципалитета и, беря взятки, жил припеваючи до тех пор, покуда рак, расползшийся по его легким, как дым по кладовке, не сожрал сначала все его деньги, а потом и его самого.
Но Герой у себя дома – это была совсем другая песня. Показывая, что пора подавать на стол или готовить уроки, давая понять, что все должно идти по раз и навсегда заведенному распорядку, он шарахал кулаком по столу. Если же не помогало, в ход шли ремень, затрещины и зуботычины, а однажды даже старая стиральная доска. Мир Эдгара Кензи должен быть упорядочен, чего бы это ни стоило.
Не знаю – а по правде говоря, и не очень-то хочу знать, – может быть, так подействовала на отца его профессия: может быть, это была единственно возможная для него реакция на обугленные, скорчившиеся в позе зародыша тела, которые он находил в раскаленных шкафах или под дымящимися кроватями. Но не исключено, что он таким родился. Сестра уверяет, что не помнит, каким он был до моего появления на свет, но ведь она так же клянется, что не помнит его нещадных побоев, из-за которых нам приходилось пропускать уроки. Не знаю. Мать пережила его только на полгода, так что и ее я спросить не могу. Да и вряд ли бы она мне сказала. Не принято это у ирландцев – обсуждать с детьми слабости и недостатки своих супругов.
Я уселся на диван и вновь задумался о Герое, мысленно твердя себе, что это в последний раз, что призрак ушел. Однако я лгал себе и знал, что лгу. Герой будил меня по ночам, Герой ждал, притаившись во мраке, в темных закоулках, в стерильных глубинах моих снов, в патроннике моего пистолета. Как и при жизни, Герой делал лишь то, что ему заблагорассудится.
Поднявшись, я подошел к телефону. Снаружи за окном, в школьном дворе напротив началось какое-то шевеление: местная шпана обнаружила свое присутствие – ребята, рассевшись в глубоких каменных проемах, покуривали марихуану, потягивали пиво. Почему бы и нет? Когда я был местной шпаной, я делал то же самое. И я, и Фил, и Энджи, и Бубба, и Уолдо, и все прочие.
Я набрал прямой рабочий номер Ричи, надеясь еще застать его в редакции, – он засиживался там допоздна. Первый же гудок был прерван его голосом: «Редакция. Одну минуту», – после чего густым сиропом полилась мелодия из «Великолепной семерки».
Потом, еще не успев толком задать себе вопрос из серии «Что неправильно на этой картинке?», я уже получил ответ. Музыка! Со школьного двора не слышалось музыки. А панки, хоть это и выдает их присутствие, шагу не ступят без своих кассетников – им это, как они выражаются «в лом».
Сквозь неплотно задернутые шторы я рассматривал двор. Все замерло. Ни огоньков сигарет, ни поблескивания бутылок. Я напрягал зрение, вглядываясь в то место, где еще совсем недавно видел то и другое. Двор был Е-образной формы, только без средней перекладины. Боковые стены выдавались на добрых два метра, и в этих углах лежали густые тени. Шевеление было справа от меня.
Я очень надеялся, что там чиркнут спичкой. В кино, когда за детективом следят, идиот преследователь всегда зажигает спичку, чтобы главному герою легче было его обнаружить. Тут до меня дошло, что я валяю дурака и сам с собой разыгрываю шпионский фильм. Может быть, там вообще была кошка.
Тем не менее я продолжал наблюдать.
– Редакция, – отозвался голос Ричи.
– Ты это уже говорил.
– Ми-и-иста Кензи, – с утрированным негритянским выговором сказал он. – Как вы поживаете?
– Замечательно. Слышал, вы сегодня опять с ног до головы обделали сенатора Малкерна?