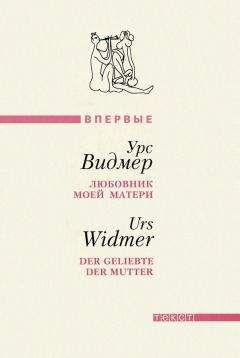Ли Чайлд - Манхэттенское безумие (сборник)
Мама не то чтобы не видела всего этого. Просто ей было все равно. Квартира почти сорок лет служила ей домом. Она росла в период Великой депрессии, в бедности, в грязи и в голоде, в разваливающемся фермерском доме. Решительно настроенная убраться подальше оттуда и прорваться, она покинула Вирджинию, когда ей исполнилось пятнадцать, и села на автобус компании «Грейхаунд», идущий в Нью-Йорк. Это было в 1932 году, когда вся страна еще боролась за выживание, и шансы прорваться у цветной девушки с образованием в размере девяти классов практически равнялись нулю. Она нашла работу на Лонг-Айленде в качестве няньки в домах белых людей при деньгах. Не часто, но иногда она все же вспоминала их великолепные дома. И я иной раз задавалась вопросом: не напоминает ли ей эта квартира и все ее выцветшее величие те дома, в которых она когда-то работала? Может быть, на ее взгляд, потемневшие полы все еще сияют блеском, а просевшие стены по-прежнему стоят прямо, как штыки?
Маме девяносто лет. Она прожила в Гарлеме лет семьдесят с лишним и все еще гордится, что живет там, в этой легендарной Мекке чернокожих американцев. В нынешние времена множество бывших обитателей Гарлема перебираются обратно на Юг, где жизнь течет медленнее, а деньги стоят дороже. Но маме этого можно не говорить – она по-прежнему считает, что Гарлем – это единственное место, где можно жить.
Особенно она горда тем, что живет в Хэмилтон-Хайтс. Это исторический район с рядами величественных на вид и полных достоинства таунхаусов и каменных террас. Он служил жилищем разнообразному в этническом отношении сообществу актеров, художников, архитекторов, профессоров и иных интеллектуалов и представителей богемы. Несомненно, некоторые его кварталы выглядят просто прелестно.
– Это один из самых красивых районов города Нью-Йорка, – любила повторять мама.
И тогда я ей отвечала:
– Я не район критикую. Дело в самом доме.
И это, конечно, являлось самой наглой ложью. Потому что я совершенно точно была недовольна и тем, и другим.
Облагораживание и перестройка, что охватили Центральный и Восточный Гарлем, оставили Западный Гарлем в стороне. По крайней мере, нашу маленькую его часть. Это участок между 135-й и 145-й стрит и между Бродвеем и Амстердам-авеню. Он выглядит совсем грустно. Дешевые домовладения, жалкие, захудалые квартиры. На Бродвее еще осталась парочка приличных ресторанов, но и они, видимо, скоро закроются. Атмосфера свободно действующего рынка наркоты под открытым небом, несомненно, несколько подрассеялась, но иной раз возникает такое ощущение, что наркодилеры просто ушли в подполье.
Но, помимо этого, рядом существует и другой Хэмилтон-Хайтс. Вот там царит сплошное великолепие. Конвент-авеню, Хэмилтон-Террас, Шугар-Хилл – эти просто поражают воображение, впрочем, они всегда поражали воображение. Вплоть до самого последнего времени они оставались в числе самых тщательно хранимых секретов Гарлема. Даже при наличии такого всем хорошо известного заведения, как Сити-колледж на Конвент-авеню, Хэмилтон-Террас, к примеру, всегда избегала всеобщего внимания. Это был всеми забытый анклав. Город сам по себе. Даже воздух там другой.
Там. Вот так я это себе представляла. Это было там. А вот это было здесь, где народ держался из самых последних сил.
– Ну, если тебе здесь не нравится, уезжай, – говаривала мама.
А я в ответ только вздыхала. Потому что мы обе знали, что никуда я не уеду. Не имея приличной работы и без нее самой. Моей мечтой было заработать достаточно для того, чтобы нам обеим выбраться оттуда, но мама и слышать об этом не желала.
– Это мой дом, – говорила она. – Когда я умру, он будет твоим, и ты сможешь делать с ним, что тебе, черт побери, захочется. Но пока что он мой. И уеду я отсюда только на тот свет.
– Не говори так!
– А почему бы и нет? Когда-нибудь ведь это все равно случится, – отвечала мама, а затем добавляла с печальной усмешкой: – Это же должно когда-то случиться.
У нее было слабое сердце, слабое, но решительное. Это явствовало из ее электрокардиограммы – как оно почти останавливалось, словно заколебавшись, потом начинало трепетать и качать кровь, снова почти останавливалось, потом вновь начинало трепетать и качать кровь. Это поражало ее врачей и беспокоило меня. Но маму это лишь слегка озадачивало, приводило в некоторое недоумение. Иногда я слышала, как она плачет в своей комнате. Почему ей приходится продолжать жить, когда так много ее друзей и подруг уже ушли? Почему?
Дело было вовсе не в том, что она осталась в одиночестве. А в том, что она не могла заниматься тем, чем ей нравилось заниматься. Больше такой возможности у нее не было. Она не могла принимать гостей, развлекать их, давать обеды. Ее знаменитые пироги из сладкого картофеля были хорошо известны всем. Все обитатели нашего дома имели возможность время от времени получить кусок такого пирога, обычно по приезде или по возвращении или в качестве поздравления с праздником. Или просто чтобы им было хорошо. Она любила готовить и ходить вниз, к подножию холма – в бакалейную лавку. Но в последнее время мама стала слишком слаба, чтобы возиться на кухне или ходить по магазинам. И завела привычку сидеть в своей комнате. Часами. В темноте.
Я во всем винила этот проклятый дом. Он ее просто убивал.
Дело было не только в грязи, вони или тараканах. Дело было даже не в потолке в ванной комнате, который непременно обрушивался каждые полгода, осыпая тебя обломками покрытых слизью кирпичей, гнилого дерева и осколков штукатурки.
Дело было в мышах.
О, какие у нас были мыши!
Они были повсюду. Можно было в любой момент слышать, как они скребутся и бегают сквозь прогнившие стены, видеть, как проносятся по полу. Наша гостиная служила им главным шоссе. Как-то вечером, когда я валялась на диване, отдыхая после работы, я поставила на пол стакан с водой. И в следующий момент какая-то мышь встала на задние лапки и отпила из него! Однажды мама оставила на верхней панели плиты горячий пирог из сладкого картофеля, чтобы тот остыл. Потом повернулась к раковине, чтобы вымыть ложку, и повернулась обратно как раз вовремя, чтобы успеть заметить, как мышь кратчайшим путем направляется прямо к ее пирогу! Ух, как она спешила! Но, конечно, сразу же затормозила, как только увидела, что мама на нее смотрит. Мама уставилась прямо в эти ее бусинки-глазки, а та уставилась на нее. И кто из них был готов сделать следующий шаг?
Мама была быстра, но мышь оказалась быстрее. Мама хотела прибить мышь ложкой, но та мотнула хвостиком и была такова. Нырнула прямо в глубь кухонной плиты. «Прямо внутрь горячей еще плиты, как будто это ее родной дом! Интересно, кто еще там прячется?»
Эту историю она рассказала мне за ужином. Тот пирог отправился прямиком в мусорное ведро, а ужинать в тот вечер пришлось консервами.
Я жутко расстроилась и заявила ей:
– Если ты не хочешь переезжать, тогда по крайней мере попробуй избавиться от мышей.
Она знала, к чему я клоню.
– Никаких кошек я заводить не собираюсь. Ненавижу кошек! В этом доме их не будет никогда!
– Но…
– Это мой дом! – напомнила она. – Мой! Слышишь? И я уже сказала: никаких кошек!
И все осталось как было.
Пока в дом не въехал Мартин Милфорд. Конечно, тогда мы ничего не знали ни про какого Мартина Милфорда. Все, что нам было известно, так это то, что стены нашей квартиры внезапно начали вибрировать, и сквозь них к нам хлынул настоящий поток мышей. Дом начал сотрясаться от визга циркулярной пилы. Невозможно было понять, сверху он исходит или снизу. Сперва я пыталась не обращать внимания на этот шум, но потом он стал настолько невыносим, что мне пришлось идти выяснять, что это такое. Я поднялась наверх, в квартиру, расположенную над нашей. Там ничего необычного не происходило, так что я спустилась вниз, на первый этаж.
Дверь в квартиру под нами была открыта, и мне было видно, что внутри некто производит весьма значительные переделки.
Этот некто, как оказалось, и был Милфорд. Высокий и гибкий, с водянисто-голубыми глазами, редеющими светлыми волосами и короткой чахлой бороденкой. Он напоминал постаревшего хиппи. На нем была выцветшая белая майка с короткими рукавами и пропыленные джинсы, и он пытался с помощью электрической циркулярки спилить стену. Он увидел меня и прекратил работу и снял с лица маску, защищавшую его от пыли. Как только он понял, что я его соседка, он улыбнулся и пожал мне руку. Я-то была готова поскандалить, но он обезоружил меня своей доброжелательностью и всем прочим. И тут же начал рассказывать о себе.
Он фотограф, заявил он, фрилансер. И переехал сюда «снизу», из района южнее Девяносто Шестой стрит.
«Ох, значит, он один из этих!» – решила я. Из тех, кто раньше и не думал, что Гарлем достаточно подходящее для него место, пока не потерял работу или не лишился доходов, и это заставило его переменить свое мнение.

![Сильвия Дэй - Сплетенная с тобой [Entwined with You]](/uploads/posts/books/16630/16630.jpg)