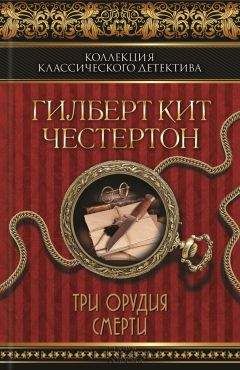Три орудия смерти (сборник) - Честертон Гилберт Кийт
– Понятно, – тем же бесцветным и вежливым голосом произнес отец Браун. – Благодарю вас.
Девушку живые воспоминания о недавно пережитом так взволновали, что она, тяжело дыша, опустилась на кресло, а священник молча прошествовал в соседнюю комнату, где к этому времени остались только Гилдер, Мертон и Патрик Ройс, сидевший на стуле в наручниках. Отец Браун обратился к инспектору:
– Могу ли я поговорить с задержанным? И не могли бы вы на минуту снять с него эти смешные браслеты?
– Он – очень сильный человек, – вполголоса произнес Мертон. – Почему вы хотите, чтобы я снял наручники?
– Потому что надеюсь иметь честь пожать ему руку, – смиренно ответил священник. Оба сыщика удивленно уставились на него, и отец Браун прибавил, обращаясь к секретарю: – Может быть, вы сами им все расскажете, сэр?
Человек на стуле покачал взъерошенной головой, и священник нетерпеливо обернулся.
– Тогда я расскажу, – сказал он. – Дела личного характера важнее того, что о тебе подумают в обществе. Я спасу жизнь, а мертвые пусть хоронят своих мертвецов.
Он подошел к роковому окну, недолго постоял молча, несколько раз моргнул и продолжил рассказ:
– Я уже говорил, что в этом деле слишком много орудий убийства и лишь одна смерть. Теперь я могу сказать, что эти вещи использовались не как оружие и не для того, чтобы убить. Все эти мрачные инструменты – веревка с петлей, окровавленный нож, разряженный револьвер, – как ни странно, были инструментами спасения. Они были использованы не для того, чтобы убить сэра Аарона, а чтобы спасти его.
– Спасти! – удивленно повторил Гилдер. – От чего же?
– От самого себя, – ответил отец Браун. – Он был сумасшедшим с навязчивой идеей наложить на себя руки.
– Что? – изумился Мертон. – Но он же был таким веселым! И всех призывал радоваться жизни, как проповедник, исповедующий веселье.
– Это жестокое вероисповедание, – произнес священник, глядя в окно. – Может быть, ему нужно было дать выплакаться, как делали все его предки? Душа его окостенела, взгляды перестали развиваться, за этой маской веселья скрывался пустой разум атеиста. Наконец, чтобы соответствовать привычному образу весельчака, он взялся за бутылку, к нему вернулась привычка, которую он оставил много лет назад. Но в этом и заключается ужас алкоголизма для убежденного трезвенника: он слишком живо представляет себе и даже ждет того психологического ада, от которого так долго предостерегал других. Несчастный Армстронг не смог долго противиться этому наваждению, и к сегодняшнему утру он уже был в таком состоянии, что мог только сидеть у себя в комнате и кричать, что он в аду, таким страшным голосом, что его не узнала даже родная дочь. Он полностью, до смерти обезумел и, не осознавая, что делает, окружил себя вещами, которые представлялись ему воплощением смерти: веревка с петлей, револьвер друга, нож. Ройс случайно оказался в этот миг рядом и вошел в комнату. Действовал он молниеносно. Отшвырнул за спину нож, схватил револьвер и, не имея времени разрядить его, просто выпустил в пол все шесть пуль. Но самоубийца увидел четвертый облик смерти – он рванулся к окну. Спасителю ничего не оставалось делать, как броситься за ним, схватить его и попытаться связать по рукам и ногам. Именно тогда в комнату вбежала несчастная девушка и, неправильно поняв смысл борьбы, кинулась перерезать веревку, чтобы освободить отца. Но первый ее удар попал в руку бедного Ройса, и это была единственная пролитая при этом кровь. Вы заметили, что на лице слуги осталась кровь, хотя на нем не было ран? Но несчастная девушка, прежде чем лишилась чувств, успела нанести еще один удар. На этот раз он достиг цели, веревка была перерезана, и ее отец вылетел из окна в вечность.
В мансарде надолго повисла тишина. Нарушило ее металлическое бряцанье наручников, когда Гилдер стал снимать их с запястий Патрика Ройса.
– Знаете, сэр, – сказал сыщик освобожденному секретарю, – мне придется рассказать всю правду. Вы и юная леди стóите больше, чем красивый некролог Армстронга.
– Да к черту некролог Армстронга! – неожиданно закричал Ройс. – Вы что, не понимаете, что все это было нужно для того, чтобы она этого не узнала?
– Чего не узнала? – спросил Мертон.
– Чего? Да того, тупица, что она убила собственного отца, – бешено закричал секретарь. – Если бы не она, он был бы сейчас жив! Она не перенесет, если узнает об этом.
– Я думаю, перенесет, – сказал тут отец Браун, поднимая шляпу. – Наверное, будет лучше, если я ей об этом расскажу. Даже самые страшные ошибки не отравляют жизнь так, как грехи. Как бы то ни было, я думаю, теперь вы с ней будете счастливы. А меня еще ждут в школе для глухих.
Когда он снова вышел на улицу и ступил на колышущуюся траву, его остановил знакомый из Хайгета, который сказал:
– Прибыл коронер. Сейчас начнется дознание.
– Меня ждут в школе для глухих, – ответил отец Браун. – Извините, я не смогу задержаться на дознание.
Ошибка машины
Как-то под вечер Фламбо и его друг священник сидели в саду у «Темпла» [6], и то ли из-за близости адвокатской школы, то ли по какой другой случайной причине заговорили они о судопроизводстве. Сначала речь шла о допустимых вольностях при перекрестных допросах, потом – о римских и средневековых пытках, о французских следователях и наконец об американских допросах третьей степени [7].
– Недавно я читал, – сказал Фламбо, – об этом новом психометрическом методе, про который сейчас столько разговоров, особенно в Америке. Ну, вы знаете, человеку к запястью приставляют измеритель пульса и следят, как бьется его сердце, когда произносят разные слова. Вы что об этом думаете?
– Любопытно, – откомментировал отец Браун. – Это мне напоминает одну интересную средневековую легенду о том, что, если к трупу прикоснется убийца, у того из ран якобы выступит кровь.
– Неужели вы полагаете, – удивился его друг, – что эти два метода стóят друг друга?
– Я полагаю, оба они гроша ломаного не стоят, – возразил Браун. – Есть миллионы причин, заставляющих кровь течь или не течь в живых или в мертвых, о которых нам неизвестно ничего. Но что бы кровь ни выделывала, пусть даже снизу вверх по Маттерхорну [8] течет, я все равно не стал бы ее проливать.
– А некоторые величайшие американские ученые, – сказал Фламбо, – одобрили этот метод.
– Ученые вообще склонны к сентиментальности, – заметил отец Браун, – а американские и подавно! Ну кто, кроме янки, мог бы додуматься доказывать что-то частотой сокращения сердца? Да они так же сентиментальны, как тот мужчина, который, видя, что женщина краснеет, полагает, что она в него влюблена. Все эти опыты, основанные на кровообращении, открытом еще великим Гарвеем [9], – совершеннейший вздор.
– И все же, – не унимался Фламбо, – подобные вещи наверняка на что-то указывают.
– Если даже палкой на что-то указать, – ответил священник, – это и то ни о чем не скажет. Почему? Да потому что второй конец палки всегда указывает в противоположную сторону. Все зависит от того, за какой конец взяться. Однажды я был свидетелем чего-то подобного и с тех пор в такие штуки не верю.
И он поведал другу историю своего разочарования.
Случилось это почти двадцать лет назад, когда он занимал должность капеллана в чикагской тюрьме. Ирландцы-католики в этом городе грешили и раскаивались с одинаковым усердием, так что без дела он обычно не сидел. В тюрьме главным человеком был комендант, бывший сыщик, звали которого Грейвуд Ашер, бледный как мертвец, вежливый философ, американец с непроницаемым лицом, на котором иногда, без видимых причин, появлялась странная извиняющаяся гримаса. Отец Браун нравился ему, и он относился к нему в некоторой степени покровительственно. Отец Браун тоже не испытывал к начальнику тюрьмы неприязни, но вот к теориям его питал отвращение. Теории эти были чрезвычайно запутанны и сложны, но исповедовались с необычайной простотой.