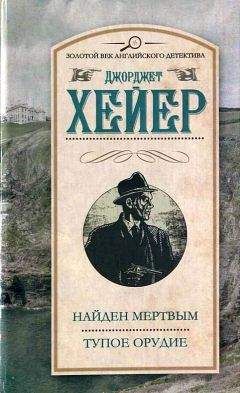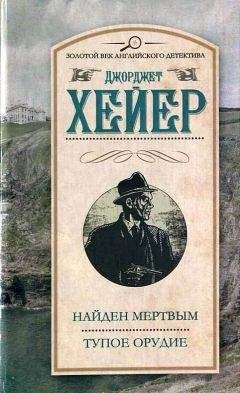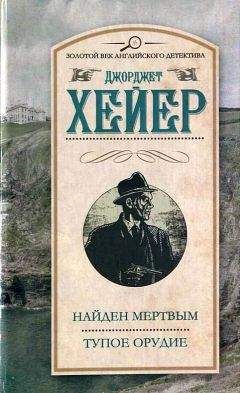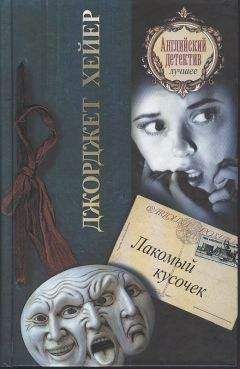Джон Ле Карре - Шпион, пришедший с холода
– Похоже, что так. – Лимас, естественно, не стал спрашивать, как он узнал об Эльвире.
– И люди Мундта застрелили его.
– Да.
Шеф поднялся и стал слоняться по кабинету в поисках пепельницы. Обнаружив ее, неловко поставил на пол между двумя стульями.
– Как вы себя почувствовали? Я имею в виду, когда застрелили Римека? Это же произошло у вас на глазах, не так ли?
Лимас пожал плечами.
– Я был чертовски раздосадован, – ответил он.
Шеф склонил голову набок и слегка прикрыл глаза.
– Уверен, ваши чувства этим не ограничились. Наверняка вы были потрясены, так? Это было бы гораздо более естественно.
– Да, я испытал потрясение. Как пережил бы его любой на моем месте.
– Вам нравился Римек? Чисто по-человечески?
– Вероятно, да, нравился, – ответил Лимас покорно. – Мне кажется, сейчас уже нет смысла обсуждать это, – добавил он.
– Как вы провели ночь? Точнее, то, что от нее осталось, после смерти Римека?
– О чем у нас разговор? – Лимас начал немного горячиться. – К чему вы клоните?
– Римек стал последним, – задумчиво сказал Шеф. – Последней жертвой в длинном списке погибших. Если память меня не подводит, все началось с девушки, которую застрелили в Веддинге у кинотеатра. Потом был наш человек в Дрездене и серия арестов в Йене. Как десять маленьких негритят. Теперь Пауль, Фирек и Лэндзер – все мертвы. И наконец, Римек. – Он криво усмехнулся. – Мы заплатили слишком дорогую цену. И я подумал, что, быть может, с вас довольно.
– В каком смысле довольно?
– Мне показалось, что вы переутомлены. Перегорели. Выдохлись.
Воцарилось долгое молчание.
– Об этом вам судить, – наконец сказал Лимас.
– Нам всем приходится жить, не имея привязанностей, верно? Хотя это, конечно же, невозможно. Мы строим друг с другом жесткие отношения, хотя на самом деле вовсе не такие уж черствые люди. Я хочу сказать… Человек не может все время жить на холоде; иногда с холода нужно возвращаться… Вы понимаете, о чем я?
Лимас понимал. Он вспомнил длинное шоссе, ведущее из Роттердама, ровную прямую дорогу среди дюн и бредущий по ней поток беженцев; вспомнил, как появился самолет, казавшийся издали совсем крошечным, и как шествие замерло, вглядываясь в него: самолет снижался почти к самым дюнам. Он вспомнил кровавый хаос, бессмысленный кромешный ад, когда бомбы стали падать вдоль дороги.
– Я не могу продолжать разговор намеками, – произнес Лимас. – Что вы хотите мне поручить?
– Хочу, чтобы вы продержались на холоде еще немного.
Лимас промолчал, и Шеф продолжил:
– Вся этика нашей работы, как я ее понимаю, строится на одном фундаментальном принципе. И состоит он в том, что агрессия никогда не будет исходить от нас. Вы согласны с этим?
Лимас кивнул. Что угодно, только бы ничего сейчас не говорить.
– Да, мы совершаем неблаговидные поступки, но всегда лишь в целях обороны. С этим, думаю, тоже трудно не согласиться. Мы вынуждены поступать скверно, но лишь для того, чтобы обычные люди в этой и других странах могли спокойно спать ночью в своих постелях. Или вам кажется, что я ударился в романтику? Разумеется, мы порой делаем страшные вещи, – он усмехнулся, как хулиганистый школьник. – И, оправдывая себя с моральной точки зрения, зачастую допускаем некоторую подтасовку: в конце концов невозможно проводить прямое сравнение между идеологией одной стороны и методами, к которым прибегает другая. Разве я не прав?
Лимас несколько растерялся. Он не раз слышал, как этот человек начинал нести околесицу, прежде чем нанести жестокий удар, но никогда дело не доходило ни до чего подобного.
– Я хочу сказать, что сравнивать между собой можно только метод с методом, идеал с идеалом. И в этом смысле со времени окончания войны методы наших врагов и наши собственные стали практически идентичны. Нельзя уступать противнику в безжалостности только потому, что политика твоего правительства подразумевает более мягкие подходы, верно? – Он тихо рассмеялся, как бы про себя. – Это же ни в какие ворота не лезет.
«Боже милостивый! – подумал Лимас. – Его разглагольствования уже начинают напоминать туманные речи отцов церкви. Что именно он мне все-таки пытается втолковать?»
– Вот почему, – продолжал Шеф, – по моему мнению, мы должны избавиться от Мундта… О, черт! – Он раздраженно повернулся к двери. – Принесут нам когда-нибудь кофе или нет? – Шеф вновь пересек комнату, открыл дверь и поговорил с невидимой девушкой в приемной. Вернувшись, он закончил: – Я считаю нашим долгом устранить его, если только нам это удастся.
– А зачем? У нас же ничего не осталось в Восточной Германии. Вообще ничего. Вы сами только что подвели черту – Римек был последним. Нам некого там больше защищать.
Шеф сел и какое-то время разглядывал свои руки.
– Это не совсем так, – произнес он наконец. – Но не думаю, что мне стоит утомлять вас скучными подробностями.
Лимас в ответ лишь передернул плечами.
– Скажите мне, – продолжал Шеф, – вы устали от шпионажа? Простите, если я начинаю повторяться. Потому что это феномен, который нам здесь хорошо знаком, хотите верьте, хотите нет. У авиастроителей это называется усталостью металла… По-моему, я верно употребил термин. Как обстоит дело с вами?
Лимас вспомнил свои мысли по пути домой этим утром и задумался над ответом.
– Потому что, если вы истощены, – добавил Шеф, – нам придется изыскивать другие способы добраться до Мундта. Понимаете, то, что я задумал, несколько выходит за рамки привычного.
Вошла девушка с кофе, поставила поднос на стол и наполнила две чашки. Шеф подождал, пока она удалилась.
– Такая дуреха, – заметил он так, словно беседовал сам с собой. – У меня в голове не укладывается, почему так трудно стало найти хорошую секретаршу. Право, не стоило давать Джинни отпуск именно сейчас. – Он какое-то время с хмурым видом помешивал сахар в своей чашке. – Нам нужно во что бы то ни стало хотя бы дискредитировать Мундта, – сказал он после паузы. – Скажите честно, вы много пьете? Виски там и прочее спиртное?
А ведь Лимас считал, что знает Шефа как облупленного.
– Да, я выпиваю. И думаю, что больше и чаще, чем другие.
Шеф понимающе кивнул.
– Что вам известно о Мундте?
– Он – убийца. Работал в Лондоне года два назад в представительстве министерства сталелитейной промышленности Восточной Германии. Нами тогда руководил советник кабинета министров – Мастон.
– Да, я в курсе.
– Мундт поддерживал связь с агентом – женой чиновника из МИДа. И убил ее.
– А еще он покушался на Смайли. И он же застрелил мужа той женщины. Это омерзительный человек. Когда-то состоял в гитлерюгенде, и все такое. Совершенно не правоверный тип коммуниста и не интеллектуал. Чистый практик холодной войны.
– Подобный нам с вами, – сухо заметил Лимас.
Шеф не воспринял это как шутку и не улыбнулся.
– Джордж Смайли знал о том деле все. К сожалению, он больше у нас не работает, но, я думаю, его стоит разыскать. Он сейчас занимается какими-то исследованиями Германии семнадцатого столетия. Живет в Челси прямо за Слоун-сквер, на Байуотер-стрит. Вы имеете представление, где это?
– Да.
– С ним в паре тогда работал Гиллам. Он сейчас в четвертом отделе стран-союзников на третьем этаже. Боюсь, произошло слишком много перемен с тех пор, как вы работали здесь.
– Что верно, то верно.
– Пообщайтесь с ними денек-другой. Они посвящены в задуманный мною план. А потом я хотел бы пригласить вас на выходные к себе. Моей жены не будет дома, – поспешно добавил он. – Она сейчас ухаживает за больной матерью. Так что мы будем предоставлены самим себе. Только вы и я.
– Спасибо. С удовольствием.
– Мы сможем все обсудить в полнейшем комфорте. Это будет замечательно. У вас появится шанс заработать на этом немалые деньги. Все, что получите, вам разрешат оставить себе.
– Спасибо.
– Но разумеется, при том условии, что вы полностью уверены и действительно хотите участвовать… Никакой усталости металла и прочего.
– Если речь идет о физическом устранении Мундта, то я в игре.
– Таковы ли ваши чувства на самом деле? – Шеф выразил свое сомнение в самой мягкой форме. А потом, задумчиво посмотрев на Лимаса, пустился в рассуждения: – Да, вижу, что таковы. Но вы ни в коем случае не должны думать, что обязаны уверять меня в этом. При нашей профессии мы быстро теряем ощущения ненависти или любви, и они становятся для нас чем-то схожим со звуками, которые собаки просто физически не воспринимают на слух. Бывает, остается только своего рода тошнота, и хочется одного – больше никогда и никому не причинять страданий. Простите, если ошибаюсь, но разве не испытали вы нечто подобное, когда у вас на глазах убили Карла Римека? Ведь вами не овладела ненависть к Мундту или любовь к Карлу? Вы почувствовали лишь тупую боль в ставшем бесчувственным теле… Мне сказали, что вы потом ходили всю ночь. Просто бесцельно бродили по берлинским улицам. Это правда?