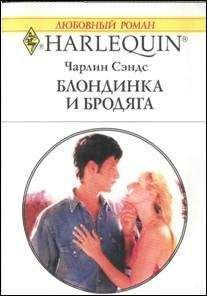Не исчезай - Эрикссон Каролина
Через несколько минут я услышала приближающиеся шаги, почувствовала, как кто-то садится на корточки рядом. Чьи-то ласковые пальцы провели по щеке, и когда я открыла глаза, увидела мамино лицо. Она слабо улыбнулась.
– Бедная моя девочка, – сказала она. – Все эти годы. А теперь еще и это.
Без колебаний мама протянула руки и взялась за веревки вокруг моих запястий. Я ожидала, что психотерапевт бросится к нам и остановит ее, подбежит с топором наперевес, выкрикивая проклятия. Но ничего подобного не случилось. Когда маме удалось ослабить веревку, которая стягивала запястья, она переключилась на щиколотки. Пока она дергала и тянула веревку, я исподтишка наблюдала за психотерапевтом. Та совершенно неподвижно сидела на коврике перед незажженным костром, задумчиво глядя на зажигалку в руке. Развязав меня, мама поднялась на ноги со слабым стоном. Она постояла, переводя дух, а потом снова обернулась к женщине, сидящей в середине комнаты.
– Я хочу сходить на кухню и принести стакан воды для дочери. Когда я вернусь, если ты хочешь, я расскажу тебе историю о матерях и дочерях и о том, что может случиться с неверными мужьями. Но тогда тебе надо будет отложить вот это.
Она вышла из комнаты, оставив меня наедине с психотерапевтом. Я в ужасе оцепенела, но женщина не двигалась и даже не взглянула в мою сторону. Она сидела на том же месте, держа зажигалку между большим и указательным пальцами. Я слышала, как где-то на кухне хлопотала мама, как открылся и закрылся кран, и вскоре она вернулась, держа в руке большой стакан. Она усадила меня, поддерживая рукой за спину, и помогла сделать несколько глотков. Прохладная вода, струящаяся по пересохшему горлу, доставляла такое наслаждение, что на мгновение я забыла обо всем на свете.
Когда я опорожнила стакан, мама поставила его на стол. Потом снова повернулась к психотерапевту. Я проследила за ее взглядом и увидела, как другая женщина после минутного колебания отшвырнула от себя зажигалку. Мама подошла и подняла ее.
– Топор тоже, – сказала она. – Я не могу разговаривать, пока он в комнате.
Не проронив не слова, психотерапевт взяла в руки топор, который лежал рядом на полу, встала и оценивающе взвесила его в руке. На секунду показалось, что она сделает, как ей сказали, и унесет зловещий черный предмет, но внезапно она передумала. Топор остался в комнате. Она просто подняла уголок ковра и убрала под него свое оружие. Потом села в кресло и обхватила себя руками, ни на кого не глядя.
– Ну, рассказывай, – сказала она. – А потом посмотрим.
Мама глубоко вздохнула. Опустилась на диван рядом со мной и откинулась на спинку.
– Ну хорошо, – сказала она наконец. – Я расскажу, что в действительности случилось одним сентябрьским вечером много лет назад.
Я не могла видеть ее лицо и поняла, что она к этому и стремилась.
39
В отличие от Греты я сохранила в памяти каждую деталь того вечера. Например, помню, что меня пронизывал холод, но я сдерживалась и не просила мужа закрыть окна. Помню сигарету в его руке, помню, как вспыхивали на ее кончике красные угольки всякий раз, когда он затягивался; как потом фильтр его сигареты съежился и снова выпрямился. И помню, что он говорил. Каждое слово.
Остатки янтарной жидкости в его стакане плескались, когда он набрасывался на меня. Это, было, конечно, обычным делом. «Лучшая защита – нападение» – таков был его девиз. Все, что я ставила ему в вину, все, что видела, слышала или понимала, всегда оборачивалось против меня. Он ничего не признавал и не отрицал. Стыдно ему тоже не было, и прощения он никогда не просил. Вместо этого с насмешками и издевками шел в контратаку и всячески давал понять, до чего я неприятный человек. А уж как женщина я вызывала у него исключительно омерзение. Я была так отвратительна, что член скрючивался у него в штанах. Я была такая унылая зануда, что часы останавливались. А еще приставучая и плаксивая. Настоящая мандавошка.
Я полагала, что служила ему опорой. Что была сильной. Что он нуждался во мне, даже если сам этого не понимал. Убеждала себя, что с ним я была тем же человеком, что и на работе, среди друзей, во внешнем мире. Человеком, который не поддается на провокации и не позволяет себя сломить. Это получалось с переменным успехом. До тех пор пока он не выбивал землю у меня из-под ног. «Мандавошка». Не знаю, почему именно это слово оказывало на меня такое действие. Знаю только, что, когда он швырял мне его в лицо, я теряла все: голос, равновесие, самообладание.
В такие моменты казалось, что он срывает с меня всю одежду и оголяет беззащитное тело; что потом он раздвигает мои ребра, просовывает внутрь грубую руку и шарит до тех пор, пока не находит маленький испуганный слизистый комок, которым я и была на самом деле. Он вытаскивал этот комок и заставлял смотреть на него. А потом вынуждал признать то, что ему всегда было известно, то, что он всегда пытался мне внушить: как бы я ни старалась обмануть себя и весь мир, прикидываясь такой умной и необыкновенной, в реальности я была всего лишь жалким, бесцветным, дрожащим комочком. И ничем иным.
На людях я делала все возможное, чтобы это скрыть, замести следы, сохранять невозмутимый вид. Не потому, что боялась, что окружающие узнают, за какого человека я вышла замуж, а из-за страха, что они обнаружат настоящую меня – бесформенный комок, спрятанный под аккуратной, крепкой оболочкой. Единственной, кто об этом знал, кому было позволено видеть мою слабость, была Рут. Я познакомилась с ней на работе, одно время мы сотрудничали в одной группе, и хотя впоследствии она была расформирована, мы продолжили общаться. К тому времени Рут стала для меня не просто важным, а необходимым человеком. С ее умом и уравновешенностью она была мне нужна как воздух. Я слепо ей доверяла.
До того самого вечера. Только я подумала, что вот все и кончено, только собралась надеть свитер и прогуляться по району, чтобы собраться с мыслями, как произошло событие, изменившее все.
– Я ведь знаю, что Грете от тебя досталось. Ударить собственного ребенка… и как у тебя только рука поднялась?
Его голос звучал резко, слова были так же холодны, как воздух за окном. Мы смотрели друг на друга в тишине.
Помню, что краем глаза я заметила какое-то движение, возле двери возникло белое пятно, но я не могла оторвать взгляд от его глаз. Могла думать только о том, что случилось у Рут на кухне пару месяцев назад. Это был самый чудовищный день в моей материнской жизни. От стыда передо мной разверзлась пропасть и стала засасывать вниз. Но я была вынуждена взять себя в руки. Вынуждена.
– Что Грета тебе сказала?
Он еще раз затянулся, выпустил струйку дыма, задрав подбородок, и рассмеялся.
– Грета? Она мне ничего не говорила, она тебе предана до умопомешательства.
– Но тогда?.. Кто же?..
Мир стоял неподвижно и в то же время бешено вращался. Он долго смотрел на меня, подняв бровь.
– Ну что тебе сказать. Ты-то сама как думаешь?
– Об этом знает только один человек, и она никогда бы…
Рут никогда не подставила бы меня так – вот что я хотела сказать, хотя мне и не удалось закончить предложение. Он пожал плечами, продолжая криво улыбаться. Затушил сигарету. Сел ровно, закинув обе ноги на подоконник. Допил остатки жидкости в стакане и молча ждал.
Я думала о Рут. О выражении ее лица, когда я пыталась оправдать свой поступок у нее на кухне, когда она слушала мои мольбы. «Рут, это ведь останется между нами? Ты ведь знаешь, что будет, если об этом узнают на работе. Там все истолкуют совершенно неправильно, не так, как было на самом деле. Я для них буду женщиной, которая ударила собственного ребенка, и никто не сможет…»
Конечно, в тот вечер мы общались холоднее, чем обычно. Но на работе никто ничего не узнал, в этом я была уверена, я бы заметила. Рут не выдала мою тайну коллегам. Так по какой же причине она пошла к нему? Именно к нему, а не к кому-либо другому? Переживала за Грету? Беспокоилась, что я могу снова ее ударить? Нет, Рут слишком хорошо меня знала.