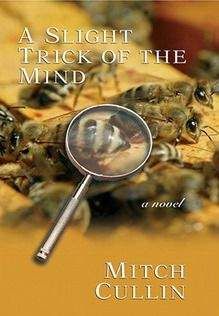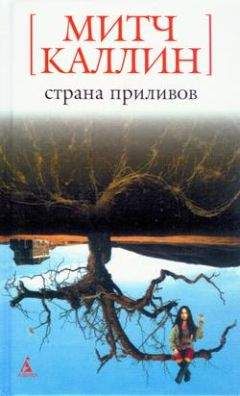Пчелы мистера Холмса - Каллин Митч
Разумеется, эта история была небезукоризненна. Холмс боялся, что, если господин Умэдзаки начнет выспрашивать, то он может запутаться в деталях, именах, датах и всяческих исторических частностях. Кроме того, он не мог дать вразумительного объяснения тому, что Мацуда бросил семью и остался жить на островах Кука. Но, учитывая, до какой степени господину Умэдзаки были необходимы ответы, Холмс счел, что этот рассказ его удовлетворит. Какие бы иные неведомые причины ни побудили Мацуду начать новую жизнь, рассудил он, его они не касались (безусловно, за такими причинами кроются некие личные, не подлежащие разглашению соображения, ему неизвестные). Да и того, что он поведает господину Умэдзаки об отце, будет немало: Мацуда сыграл главную роль в предотвращении захвата французами островов Кука и в пресечении мятежа на Ниуэ, к тому же, прежде чем затеряться в джунглях, он пытался сподвигнуть островитян на то, чтобы когда-нибудь учредить собственное правление. «Ваш отец, — скажет он господину Умэдзаки, — был глубоко уважаем британским правительством, а уж для старейшин Раратонги и тех жителей окрестных островов, которые его помнят, он — легенда».
И вот при неярком свете лампы у кровати Холмс взял трости и встал. Надев кимоно, он двинулся через комнату, заботясь о том, чтобы не заплелись ноги. Подойдя к перегородке, он немного постоял перед нею. В комнате господина Умэдзаки слышался храп. Глядя на перегородку, он слегка ударил тростью об пол. После этого услышал кашель и негромкий звук (господин Умэдзаки повернулся в постели, простыни зашуршали). Он послушал еще, но больше ничего не было. Он стал нащупывать ручку, нашел вместо оной выемку и отодвинул перегородку.
Соседняя комната ничем не отличалась от той, где спал Холмс, — тусклый желтый свет лампы, посередине кровать, встроенный стол и приставленные к стене подстилки для сидения или стояния на коленях. Он приблизился к кровати. Простыни были сбиты, и он едва видел спящего на спине полуголого господина Умэдзаки, неподвижного и тихого, будто бездыханного. Слева от кровати, у светильника, выровняв носки, стояли тапочки. Когда Холмс сел на пол, господин Умэдзаки проснулся и испуганно заговорил по-японски, вглядываясь в нечеткую темную фигуру рядом с ним.
— Я должен вам кое-что рассказать, — сказал Холмс, кладя трости на колени.
Не сводя с него глаз, господин Умэдзаки сел. Дотянувшись до светильника, он поднял его, озарив строгое лицо Холмса.
— Шерлок-сан? Все хорошо?
Холмс сощурился от света. Он положил ладонь на поднятую руку господина Умэдзаки и мягко опустил лампу. Потом заговорил из темноты:
— Прошу вас просто слушать и, когда я кончу, прошу вас более не спрашивать меня об этом.
Господин Умэдзаки не ответил, и Холмс продолжал:
— С годами я взял за правило никогда, ни при каких обстоятельствах, не распространяться о делах сугубо конфиденциальных или затрагивающих государственные интересы. Надеюсь, вы понимаете: отступления от этого правила могли бы поставить под угрозу жизни людей и испортить мою репутацию. Но теперь я сознаю, что я старик, и, думаю, можно сказать, что моей репутации уже ничто не повредит. Также, думаю, можно сказать, что людей, чьи тайны я хранил десятилетиями, уже нет в живых. Другими словами, я пережил все, что меня создало.
— Это не так, — вставил господин Умэдзаки.
— Пожалуйста, не говорите ни слова. Если вы будете молчать, я скоро перейду к вашему отцу. Видите ли, я хочу рассказать о том, что я о нем знаю, пока не забыл, и хочу, чтобы вы лишь слушали. И я прошу, после того как я договорю и оставлю вас, никогда не обсуждать этого со мною, потому что нынче ночью, мой друг, я единственный раз в жизни нарушу свое правило. Теперь, с вашего позволения, я попытаюсь сделать все, что в моих силах, дабы подарить нам обоим покой.
И Холмс начал свой рассказ тихо, почти шепотом, в тоне его было что-то убаюкивающее. Когда он дошептал, они еще некоторое время смотрели друг на друга, не шевелясь и ничего не говоря, словно один был отражением другого, — два подсвеченных снизу неясных силуэта с затененными лицами, — потом Холмс без единого звука встал на ноги и устало потащился в свою комнату, стремясь к кровати и тяжело стуча тростями по циновкам.
Глава 20
В Сассексе Холмс не задерживался мыслью на том, что рассказал господину Умэдзаки той ночью в Симоносеки, и ему не казалось, что загадка Мацуды подпортила ему поездку. Он сидел, запершись в кабинете, и память неожиданно перенесла его туда — он вообразил далекие дюны, где они бродили с господином Умэдзаки; точнее, увидел, как идет к ним по берегу рядом с господином Умэдзаки и оба порой приостанавливаются, чтобы обвести взглядом океан или редкие белые облака на горизонте.
— Какая чудесная погода, не правда ли?
— О да, — согласился Холмс.
Это был их последний день в Симоносеки, и, хотя оба плохо спали (прежде чем пойти к господину Умэдзаки, Холмс то соскальзывал в сон, то выскальзывал из него, а господин Умэдзаки после ухода Холмса долго не мог заснуть), поиски зантоксилума они возобновили в хорошем настроении. К утру ветер совсем улегся, и они видели великолепное весеннее небо. Когда после позднего завтрака они покинули гостиницу, ожил и город: люди вышли из домов и лавок и подметали нанесенный ветром мусор; у ярко-красного храма Акама дзингу пожилая пара распевала на солнышке сутры. Идя вдоль моря, они заметили чуть впереди береговых барахольщиков — около дюжины женщин и стариков копались в морском урожае, собирали моллюсков и всякие другие полезные вещи, выброшенные волнами (одни волокли на спинах вязанки плавника, у других на шеях висели толстые охапки мокрых водорослей, похожие на грязные обтрепанные горжетки). Вскоре они миновали барахольщиков и вступили на узкую дорожку, ведшую в дюны, — она постепенно расширялась, пока не потерялась наконец в сверкающей зыби, которая окружила их со всех сторон.
Изрытые ветром дюны, поросшие бурьяном, в крапинках ракушек и камней, закрывали весь океан. Отлогие холмы простирались вдаль от берега; вздымаясь и опадая, они тянулись к далекому горному кряжу на востоке и на север — к небу. Даже в этот безветренный день песок двигался под ногами, когда они с трудом шли вперед, завихряясь позади них и осыпая отвороты их брюк соленой пылью. Отпечатки следов за их спинами медленно пропадали, точно заметаемые невидимой рукой. Перед ними, где дюны смыкались с небом, колебался мираж, посверкивая, точно поднимающийся от земли пар. Но им все равно было слышно, как волны разбиваются о берег, как перекликаются барахольщики, как кричат над морем чайки.
К изумлению господина Умэдзаки, Холмс опять указал туда, где они искали прошлым вечером и где, по его мысли, им следовало искать и сейчас, — севернее, у тех дюн, что подступали к самой воде:
— Вот увидите, песок там влажный, самая лучшая почва для нашего кустарника.
Они шли без передышки, жмурясь от слепящего света, сдувая песок с губ, и их ботинки увязали в складках дюн; иногда Холмсу требовалось усилие, чтобы сохранить равновесие, и его выручала рука господина Умэдзаки. Наконец песок под их ногами затвердел, океан оказался в нескольких ярдах, и они вышли на открытое место, где рос бурьян, разнообразная иная зелень и валялась большая связка плавника, отцепившаяся, верно, от рыболовного судна. Они немного постояли, отдыхая и отряхивая песок со штанин. Господин Умэдзаки присел на плавник — промокнуть лицо носовым платком, вытереть пот, капавший с бровей и стекавший по лицу и подбородку, а Холмс, сунув в рот незажженную сигару, принялся ревностно исследовать бурьян, осматривать растительность по соседству и присел над разметавшимся во все стороны кустиком, покрытым мухами (насекомые облепили растение, обильно кучась на цветках).
— Вот ты где, моя радость, — воскликнул Холмс, откладывая трости. Он нежно коснулся веточек, ощетинившихся короткими сдвоенными шипами у основания листьев. Отметил на отдельных побегах мужские и женские цветки (кисти пазушных соцветий, цветки однополые, зеленоватого оттенка, крохотные — каждый не больше десятой доли дюйма, лепестков пять или семь, белого цвета); на мужских около пяти тычинок, на женских — по четыре или пять плодников (в каждом — по две семяпочки). Он взглянул на семена — круглые, блестящие, черные. — Пленительно, — сказал он зантоксилуму, будто ближайшему другу.