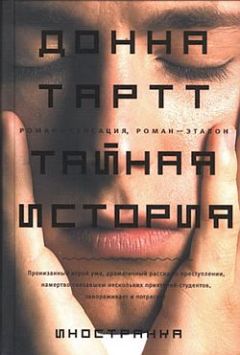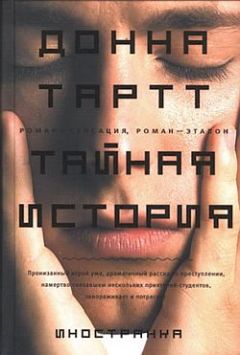Тайная история - Тартт Донна
Здесь стоял и рояль, за которым сидел Чарльз. На мягкой скамеечке рядом с ним я заметил стакан с виски. Чарльз был слегка пьян, и Шопен звучал небрежно, ноты сонно и плавно перетекали одна в другую. Ночной ветерок играл у него в волосах, покачивал тяжелые, изъеденные молью бархатные шторы.
— Обалдеть! — вырвалось у меня.
Музыка оборвалась, и Чарльз поднял голову:
— Наконец-то. Что так поздно? Банни вот уже спать отправился.
— А где Генри? — спросил Фрэнсис.
— Занимается. Может, еще спустится ненадолго перед сном.
Подойдя к роялю, Камилла сделала глоток виски из стакана Чарльза.
— Обязательно посмотри книги, — сказала она мне. — Представляешь, здесь есть первое издание «Айвенго».
— По-моему, его как раз продали, — сказал Фрэнсис, усевшись в кожаное кресло и закуривая. — Да, здесь есть парочка стоящих вещей, но в остальном — сплошь Мари Корелли [29] и старые выпуски «Ровер бойз». [30]
Я подошел к полкам. Нечто под названием «Лондон» некоего Пеннанта, шесть томов в переплете из красной кожи — огромные книги, полметра высотой. Рядом столь же массивное собрание в бледно-желтой коже — «История лондонских клубов». Либретто «Пиратов Пензанса». [31] Бесчисленные экземпляры «Бобси твинз». [32] «Марино Фальеро» Байрона в черном кожаном переплете, год отпечатан на корешке золотыми буквами: 1821.
— Слушай, если хочешь виски, налей себе в стакан, — сказал Чарльз Камилле.
— Не хочу. Я хочу еще глоточек из твоего.
Одной рукой протянув ей стакан, другой Чарльз ловко пронесся по клавиатуре.
— Сыграй что-нибудь, — попросил я.
Он закатил глаза.
— Ну сыграй, — поддержала Камилла.
— Не, не хочется.
— Разумеется — он же у нас давно все позабыл, — тихонько сказал Фрэнсис притворно сочувственным тоном.
Приложившись еще раз к виски, Чарльз правой рукой сыграл короткую восходящую гамму, закончив ее бессмысленной трелью. Затем, передав стакан Камилле, освободил левую, повернулся к роялю, и трель перешла в первые такты одного из регтаймов Скотта Джоплина.
Он играл увлеченно, с улыбкой следя за пальцами, поднимаясь от басов до верхних октав сложными синкопами, которые сделали бы честь чечеточнику на лестнице Зигфелда. Камилла, сидевшая рядом с ним, улыбнулась мне, и я, все еще словно сквозь туман, улыбнулся в ответ. Отражавшееся от высокого потолка жутковатое эхо почему-то придавало этой отчаянно веселой музыке ностальгический оттенок, и я слушал, погруженный в воспоминания о никогда не виденном.
Чарльстон на крыльях парящих над землей бипланов. Сцены на палубе тонущего корабля, музыканты по пояс в бурлящей ледяной воде лихо выводят «Старое доброе время» — прощальный геройский припев. Нет, собственно говоря, в ту роковую ночь на «Титанике» пели вовсе не «Старое доброе время», а религиозные гимны. Гимны один за другим, католический священник без конца читал «Богородице Дево, радуйся», а салон первого класса, должно быть, точь-в-точь походил на эту библиотеку: темное дерево, пальмы в кадках, розовые шелковые абажуры с подрагивающей бахромой. Я и вправду слегка перебрал. Я сидел в кресле, завалившись набок и крепко вцепившись в подлокотники («Благодатная Марие, Матерь Божия…»), и даже пол у меня под ногами кренился, совсем как палубы на терпящем бедствие корабле: вот-вот мы все, вместе с роялем, издав истерическое «И-и-и!», соскользнем к стене.
На лестнице послышались шаги, и в библиотеку, сонно щурясь, в пижаме, ввалился взлохмаченный Банни.
— Какого черта! — обиженно пробубнил он. — Разбудили меня тут…
Никто даже не посмотрел на него и, в конце концов он плеснул себе виски и со стаканом в руке зашлепал босыми ногами обратно по лестнице.
Увлекательное это все же занятие — раскладывать содержимое памяти в хронологическом порядке. До первых выходных в загородном доме мои воспоминания о той осени туманны и расплывчаты, как неудачная фотография, начиная с этого уик-энда они становятся восхитительно четкими. Именно тогда надменные манекены, какими казались мои новые знакомые, начали зевать, потягиваться — одним словом, оживать. Конечно, прошло еще немало времени, прежде чем таинственное очарование и лоск новизны, не дававшие мне взглянуть на них объективно, исчезли без следа (хотя, надо сказать, их подлинная жизнь оказалась гораздо интереснее любой из версий, что рисовало мое воображение), но именно тогда за масками неприступных чужаков я впервые различил черты моих будущих друзей.
Сам себе в этих ранних воспоминаниях я представляюсь настороженным, недовольным, до странности молчаливым незнакомцем. Всю жизнь люди принимали мою застенчивость за угрюмость, снобизм, плохое настроение и тому подобное. «Хватит корчить такую надменную рожу!» — случалось, орал отец, когда я ел, смотрел телевизор или занимался каким-нибудь другим столь же безобидным делом. Однако черты лица (а дело, я думаю, именно в них — уголки моих губ обычно слегка опущены, но с настроением это никак не связано), которые так часто оказывали мне дурную услугу, иногда играли мне на руку. Месяцы спустя после знакомства с неразлучной пятеркой я с удивлением выяснил, что поначалу был для них не меньшей загадкой, чем они для меня. Я был твердо уверен, что они видят во мне неуклюжего провинциала, и не мог даже вообразить, что в моем поведении для них кроется нечто загадочное. Между тем именно так оно и было. Почему, спрашивали они меня потом, почему я ни словом не обмолвился о своем прошлом? Почему так старательно избегал их? (В ответ на этот вопрос я опустил глаза, осознав, что манера прятаться за первой попавшейся дверью вовсе не была гениальным шпионским трюком.) И почему, спрашивается, ни разу не пригласил их к себе, после того как сам побывал в гостях? Я-то думал, они пытаются уничтожить меня презрением, а на самом деле они просто ждали, с безупречной вежливостью незамужних тетушек, что я сделаю ответный шаг.
Но как бы то ни было, именно тот уик-энд ознаменовал начало перемен. Темные промежутки между фонарями стали короче и случались реже — верный признак того, что поезд приближается к знакомым местам и скоро в окнах замелькают ярко освещенные улицы родного города. Дом был их козырем, их ненаглядным сокровищем, и в те выходные они показывали его мне не торопясь, постепенно, словно пытаясь растянуть удовольствие: головокружительные комнатушки в угловых башенках, высоченный чердак — балки едва различимы в полумраке, увешанные колокольчиками огромные старые сани в подвале, в которые, наверное, когда-то запрягали четверку лошадей. В бывшем сарае для экипажей теперь жил смотритель. («Кстати, вот идет миссис Хэтч. Милейшая женщина, но муж у нее — адвентист седьмого дня или что-то в этом роде, очень строгий. Когда он заходит в дом, мы тут же убираем спиртное. — А то что? — А то он впадет в депрессию и начнет разбрасывать по всему дому душеспасительные брошюрки».)
Чуть позже мы прогулялись к озеру (как выяснилось, землевладельцы, имения которых располагались на его берегах, договорились, что озеро будет находиться в общем пользовании). По дороге мне показали теннисный корт и старую беседку — толос [33] с дорическими колоннами, стилизованный под храмы Помпеи в соответствии с эстетическими воззрениями Стэнфорда Уайта, [34] и (как язвительно добавил Фрэнсис, которого раздражали эти викторианские потуги на классицизм) достойный послужить декорацией к фильмам Гриффита и де Милля. [35] Эта гипсовая бутафория, сообщил он, в свое время была заказана по каталогу «Сире, Роубак» и доставлена в разобранном виде. Парк кое-где сохранил остатки своего первоначального, по-викториански правильного и опрятного вида: осушенные пруды, где раньше плавали карпы, длинные белые колоннады, которые когда-то увивал плющ, аккуратно выложенные камнями границы дорожек между клумбами, где цветов давно уже не было и в помине. Однако по большей части эти следы былого величия едва проступали: живые изгороди буйно разрослись, а местные породы деревьев — лиственницы и ржавые вязы — совсем задушили оставшиеся кое-где айву и араукарию.