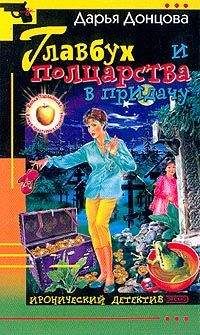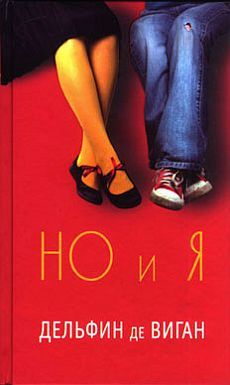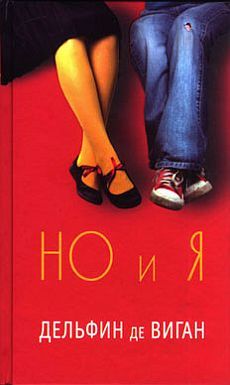Основано на реальных событиях - де Виган Дельфин
Несколько минут прошли в молчании, потом она придвинулась ко мне. Ее голос показался мне слегка надтреснутым, как будто она всю ночь пела или курила.
– С тобой бывало, что ты не можешь вернуться домой?
– Да, конечно. Только давно.
– Сегодня ночью я занималась с мужчиной любовью в отеле. Часов в пять или шесть я оделась и взяла такси, которое доставило меня к дому. Оказавшись внизу, я не смогла подняться, мне не хотелось спать и даже хотя бы лечь. Как будто что-то во мне не соглашалось капитулировать. Тебе знакомо такое ощущение? Тогда я пошла куда глаза глядят. Сюда.
Кофейник засвистел. Я поднялась с дивана, чтобы выключить плиту. С любой из моих подруг я бы разлила кофе и тут же вернулась бы на диван, чтобы со смехом приступить к тщательному допросу: что за мужик? Давно встречаетесь? Где? Скоро ли увидитесь снова?
Но я поставила перед Л. чашку и сахарницу и осталась стоять.
Я не могла задать ей ни одного вопроса.
Я смотрела на Л. и улавливала лихорадку, трепещущую у нее под кожей, да, оттуда, где я стояла, я очень отчетливо улавливала горячечный стремительный ток ее крови.
Я оставалась там, далеко от нее, опершись спиной о посудомойку. Я впервые подумала, что в Л. есть что-то, что от меня ускользает, чего я не понимаю. Впервые, мне кажется, я испугалась, сама не знаю, чего, хотя не могла придать своим опасениям ни формы, ни образа.
Л. выпила кофе и встала. Она поблагодарила меня.
Уже рассвело, и она чувствовала, что теперь готова вернуться домой, она устала.
Хотелось бы мне суметь понять, что за человек Л. во всех ее проявлениях, какими бы противоречивыми они ни были.
Л. проявляла себя в разном свете, то солидной и сдержанной, то забавной и непредсказуемой. Именно это делает таким сложным представление о ее личности, эти внезапные переходы к владению собой, эта смесь властности и серьезности, которая вступала в противоречие с вспышкой досады или фантазии, сила которой напоминала мне неожиданные приливы воздуха, когда под порывом ветра с грохотом распахиваются окна.
Л. по-прежнему поражала меня своей способностью мгновенно улавливать чужое настроение и приспосабливаться к нему. Она умела переломить недовольство официанта в кафе или усталость продавщицы в кондитерской, как будто, едва переступив порог, почувствовала их настроение. Она всегда как бы опережала на такт. В общественном месте она умела с кем угодно завести разговор и меньше чем за три минуты уже выслушивала жалобы и вызывала на откровения. Л. проявляла снисходительность и терпимость, казалось, она все понимает, хотя не выносит суждения.
Л. умела найти слова утешения и примирения.
Л. относилась к числу тех людей, к которым инстинктивно обращаются на улице, чтобы спросить дорогу или совет.
Но порой гладкая поверхность вдруг нарушалась, и Л. обнаруживала удивительную грань себя самой. Время от времени, явно желая опровергнуть собственные убеждения, Л. впадала в ошеломляющий, непропорциональный гнев. Например, из-за того, что, столкнувшись с ней на тротуаре, кто-то не изменял своей траектории (она полагала, что два человека, идущие навстречу друг другу, должны сделать шаг в сторону или, во всяком случае, сделать движение в знак уважения или готовности). Среди эпизодов в метро мне помнится, как однажды в течение пяти минут, когда какая-то женщина орала в свой мобильник, Л. с непроницаемым лицом громко отвечала ей, а та не отдавала себе отчета, что это вызывало смех окружавших нас пассажиров.
В другой раз, когда мы с ней назначили встречу на площади Мартен-Надо, я обнаружила ее там красной от бешенства и осыпавшей ругательствами какого-то типа, который кричал громче ее, но чьи выражения казались гораздо более сдержанными. Своим низким, твердым и решительным голосом Л. одержала победу. Согласившись наконец уйти, она объяснила мне, что тот тип повел себя нагло и вульгарно по отношению к двум девушкам, прошедшим мимо него в шортах.
Л. могла говорить на самые разнообразные темы. Парижская невежливость, мелкие начальники, инквизиторы и палачи всех сортов, разные формы соматических изменений и их связь с нашим временем, человеческая телепортация относились к ее любимым темам. Если исходить из принципа, что мы есть не что иное, как совокупность связанных между собой атомов, то никакой основной закон физики не мешает нам жить вместе, соблюдая наше личное пространство. Никакой основной закон физики также не помешает нам через несколько сотен или тысяч лет телепортироваться из пункта А в пункт Б, точно так же, как сегодня мы можем почти мгновенно отправить фотографию или музыкальный отрывок на другой конец света.
Среди других причуд Л. можно назвать ее уверенность в том, что левши – существа особенные, что они мгновенно распознают друг друга, связаны между собой и образуют долгое время отрицавшуюся невидимую касту, превосходство которой больше не требует доказательств.
Очень скоро я заметила, что у Л. имеются также и фобии: однажды, когда мы вдвоем завтракали в кафе моего квартала, я увидела, как по барной стойке позади нее пробежала мышь. Заметить мышь в парижском ресторане, даже самом шикарном, не редкость, но я должна признать, что днем, в переполненном зале, это случается не так часто. Тем более что зверек семенил довольно беспечно. Зрелище показалось мне достойным того, чтобы прервать наш разговор.
Л. замерла, не решаясь обернуться.
– Настоящая мышь? Ты шутишь?
Я отрицательно покачала головой, я забавлялась.
А потом я догадалась, что Л. не прикидывается, она побледнела, на лбу выступили бисеринки пота. Я впервые видела ее такой бледной.
Я попыталась успокоить ее: мышка исчезла, незачем беспокоиться, она не вернется. Л. знать ничего не хотела. Она больше не проглотила ни кусочка салата, к которому только притронулась, попросила счет, и мы вышли.
Позже я обнаружила, что Л. терпеть не может всех грызунов, и она призналась, что не смогла дочитать написанный мной рассказ, где шла речь о белых мышах.
Постепенно, из отдельных наших разговоров, я узнала, что Л. прочла всё, что я написала и опубликовала: романы, новеллы, мои произведения в коллективных сборниках, всё, кроме этого текста, который она не смогла закончить.
Впрочем, Л. признавала, что имеет некоторые мании и сильно интересуется чужими. На этот счет у нее была своя теория. Ни одно существо не может выжить в нашем обществе, не разработав определенное количество ритуалов, которые даже не всегда осознает. Л., например, отмечала, что у каждого из нас есть пищевые периоды. Я понимаю, о чем она говорит? Если бы я задумалась об этом, то могла бы констатировать, что со временем мое питание изменилось и прошло несколько фаз, разных периодов, соответствующих возрастным, и испытало влияние различных факторов. Например, исключение из рациона некоторых продуктов, тогда как другие, до той поры забытые, наоборот, вдруг становились мне необходимы. Она предлагала мне подумать о моем завтраке. Всегда ли он был одинаковым? Я признала, что и правда неоднократно меняла привычный набор. У меня были периоды «тартинки плюс йогурт», «злаки плюс йогурт», «просто бриоши»… В двадцать лет я пила чай, в тридцать – кофе, в сорок – горячую воду. Это вызвало у нее улыбку. Л. заверила меня, что в период взросления она прошла определенные хроматические периоды: «оранжевый», на протяжении которого она питалась только продуктами этого цвета (апельсины, абрикосы, морковь, сыр мимолет, тыква, дыня, вареные креветки); потом, чуть позже, наступил «зеленый» период (шпинат, фасоль, огурцы, брокколи), которому она положила конец, когда вышла замуж.
Также Л. констатировала, что определенное число наших повседневных действий совершается в неизменном порядке, не являясь предметом ни решения, ни размышления. Их очередность, по ее мнению, свидетельствовала о наличии линии поведения, которой мы более или менее осознанно придерживаемся, чтобы выжить. Наши оговорки, сколь бы нечаянны они ни были, лучше, нежели сама наша речь, указывают, в какой степени в некий момент мы способны принять основные требования нашего окружения (или сопротивляться им). Согласно теории Л., разговорные выражения, которые мы коллективно используем, лучше, чем любое углубленное исследование нашей жизни или нашего времяпрепровождения, выражают наши самые сильные расстройства. Таким образом, во времена, когда, казалось, ничто уже не функционировало, когда общество в целом словно находилось в замершем, подвешенном состоянии, люди повсюду твердили «все в порядке». Кроме того, вечеринки, фильмы перестали быть чем-то «очень» – очень симпатичными, очень нудными, очень быстрыми, очень медленными. Они стали «слишком» – слишком симпатичными, слишком нудными, слишком быстрыми, слишком медленными. Наверное, потому, что этот образ жизни на самом деле полностью завладел нами.