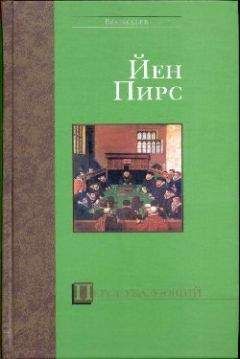Перст указующий - Пирс Йен
– Знаете, мистер Вуд, – произнес мягкий певучий голос у меня над ухом, – сдается, я только что слышал пение петуха. Не странно ли такое для столь позднего часа?
– Оставьте меня.
– А вот я не прочь поговорить с вами, сударь.
Этот незнакомец, этот Валентин Грейторекс, повел меня к себе, усадил у огня и обсушил, после чего сел напротив и стал глядеть на меня с непоколебимым спокойствием, пока я не заговорил первым.
– Я ходил к мировому судье и хотел объяснить, что она невиновна. Я сказал, что это я, а не Сара, убил доктора Грова. Он мне не поверил.
– Вот как?
– Потом я пошел к доктору Уоллису и рассказал ему, и он тоже отказался мне верить.
– Надо думать.
– Почему вы так говорите?
– Ведь иначе она могла бы и не умереть завтра. Вы, думаю, хорошо ее знаете?
– Лучше других.
– Прошу вас, расскажите мне. Я хочу знать о ней все.
Джек Престкотт пишет об этом человеке, о том, как его голос притягивает слух и утишает страдания, поэтому все, к кому он обращается, как будто впадают в безмятежную грезу и слушаются любого его приказа. Так вышло и со мной, и я рассказал ему все, что знал о Саре, все, что вложил в эту рукопись, ибо его глубоко интересовали ее речи и он страстно желал услышать каждое произнесенное ею слово. Когда я передавал ее слова на собрании, из его груди вырвался глубокий вздох и он удовлетворенно кивнул.
– Я должен спасти ее, – завершил я свой рассказ. – Должно же быть что-то, что я смог бы сделать.
– Э, мистер Вуд, вы слишком много читали рыцарских романов. – В его голосе звучала одна лишь доброта. – Быть может, вы видите себя Ланселотом Озерным, что прискачет на белом коне и спасет от костра Гвиневеру, поразит всех врагов и увезет ее в неприступный замок?
– Нет. Я думал, если я пойду к лорду-наместнику или к судье…
– Они не станут вас слушать, – сказал Грейторекс. – Как не стал вас слушать мировой судья или этот Уоллис, как не услышал вас никто в зале суда. Да, «слухом слышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите», так сказано в Книге пророка Исайи.
– Но почему столько людей желают ей смерти?
– Вы сами уже прекрасно все знаете, но сердцем не готовы принять случившееся. Вы знаете, что вы видели, вы знаете Библию, и вы слышали ее собственные слова. Вы ничего не можете поделать, и вам ничего не следует делать.
– Но я не могу без нее жить.
– Это – вам наказание за ту роль, какую вы сыграли в свершившемся.
У меня не осталось ни духа, ни сил, чтобы возражать, и выпитое настолько затуманило мой разум, что я не сумел бы вымолвить ни слова, даже если бы и захотел. По прошествии некоторого времени Грейторекс помог мне подняться с табурета и вывел на свежий воздух, который оживил меня настолько, что я смог стоять прямо.
– Это чистилище, друг мой, но, вот увидите, оно не продлится долго. Пойдите поспите, если сможете; молитесь, коли не сможете заснуть. Вскоре все кончится.
Я последовал его совету и всю ночь провел в глубочайшей молитве за себя самого и за Сару, всей душой моля Господа вмешаться и остановить безумие, какое он обрушил на мир. Моя вера слаба, позор для любого, кому жизнь благоприятствовала, как мне. Я был избавлен от богатств и славы, от власти и положения точно так же, как Его доброта уберегла меня от нищеты и тяжкой болезни. Любое бесчестье – только мое, лишь я навлек его на себя, а малейшее достижение – заслуга Его милостью. И, невзирая на это, я был слишком слаб в вере. Я молился жарко, я прибег ко всем известным мне ухищрениям, чтобы обрести ту тихую искренность смирения, какую испытал лишь однажды, когда в морозную стужу ехал верхом по зимней дороге, а Сара сидела позади меня на седле. Малая частица моей души знала, что я всего лишь заполняю часы до той минуты, когда свершится неизбежное. Снова и снова я бросался в борьбу, все более отчаянную с каждой новой попыткой смирить мятежный дух. Но я слишком много времени провел в кругу рационалистов и тех, кто говорил мне, будто век чудес миновал и знамения Божьи, явленные отцам Церкви, были унесены из этого мира, чтобы никогда больше не появиться. Я знал, что это не так, и знал, что Господь и по сию пору может вмешаться и вмешивается в дела людские, но не мог принять этого всем сердцем. Я не мог произнести простые слова: «Да свершится воля Твоя» и сказать их от чистого сердца. Знаю, я хотел сказать: «Да свершится воля Твоя, если она соответствует моим пожеланиям». А это – не молитва и не смирение.
Мои молитвы были напрасны. Незадолго перед рассветом я оставил тщетные попытки, понимая, что Господь покинул меня. Я не обрету помощи, и единственное, чего я желал более всего на свете, не будет мне даровано. Я знал, что потеряю ее, и в то мгновение постиг, что Сара была самым драгоценным, что было в моей жизни и будет в те годы, какие мне еще предстоят. Я примирился с отпущенным мне наказанием и в отчаянии и рассветной тиши, наверное, впервые молился истинно. Знаю лишь, что тьма отпустила меня, и чувство глубочайшего мира снизошло на мою душу, и вновь я оказался на коленях, всем сердцем благодаря Господа за Его доброту.
Я не знал, чего мне ждать, и не мог понять, как может случиться так, что минует неостановимый поход людской жестокости. Но я больше не спрашивал и не сомневался. Одевшись как можно теплее, я накинул на плечи самый плотный плащ – ведь хотя пришла весна, на рассвете подмораживало, – и смешался с толпой, спешащей к крепости в преддверии казни.
Лишь одному человеку было суждено умереть в то утро; судья проявил к другим столько же милосердия, сколько мстительности он проявил к Саре; и казнь должна была свершиться быстро. Когда я подошел, толпа уже окружила большое дерево посреди двора, с толстого сука свисала веревка, а к стволу была прислонена лесенка. Сердце мое упало, и меня вновь охватили сомнения, но огромным усилием воли я отмел от себя подобные мысли. Я не знал даже, зачем я здесь. Разумеется, в моем присутствии не было ни цели, ни смысла, и я не желал, чтобы Сара меня видела. Но я чувствовал, мне необходимо быть здесь, что от этого зависит сама ее жизнь, пусть я и не мог постичь почему.
Лоуэр тоже тут был, в обществе Локка и пары дюжих малых, в одном из которых я узнал привратника из Крайст-Чёрч. Странное общество, подумалось мне, прежде чем в мою душу закралось подозрение о том, что они замышляют. Я не видел Лоуэра несколько дней, но мне следовало бы догадаться, что он не упустит возможности раздобыть новый материал для своей книги. Он был человек добрый, но увлеченный своим делом. Выражение суровой решимости в его лице, когда он расхаживал взад-вперед под деревом, говорило о том, что врач вовсе не предвкушает удовольствия от надвигающихся событий, но и не дрогнет, не отступит от своего.
Я избегал его; я был не в настроении беседовать и лишь мельком взглянул на еще одну кучку людей, с громким разговором и грубыми шутками сгрудившихся вокруг профессора-региуса, стоявшего чуть поодаль. Удели я им больше внимания, я бы большее значение придал перешептыванию Лоуэра со своими товарищами, тому, как они заняли место возле самой виселицы, и выражению сурового удовлетворения, промелькнувшему в лице Лоуэра, когда он оглядывал поле будущей битвы и диспозицию своих сил.
И вот вывели закованную в кандалы Сару, которую сопровождали два крепких стража, хотя в последних едва ли была нужда, такой маленькой, хрупкой и слабой выглядела девушка. Один ее вид разбил мне сердце: глаза у нее слипались от недостатка сна, и черные круги под ними проступали тем ярче, что по лицу разлилась смертельная бледность; прекрасные темные волосы были непокрыты, но теперь они уже не казались прекрасными, она всегда любовно их расчесывала, они были самым большим – на деле, единственным – предметом ее гордости. Теперь, нечесаные и свалявшиеся, они были затянуты в грубый узел на затылке, дабы не мешали веревке.
Я лишь повторяю то, что Кола уже записал с моих слов; она действительно отказалась от пастора с храбростью и смирением, которые вызвали громкие рукоплескания толпы, сама произнесла молитву, а после нее краткую речь, в которой, раскаиваясь в грехах, она не созналась в том единственном, за который ей предстояло умереть. В ее словах не было ни звучного геройства, ни неповиновения, ни воззвания к сочувствию собравшихся, которые были бы уместны, скажи их в сходных обстоятельствах мужчина. Уверен, здравый смысл подсказал ей, что из ее уст такие речи показались бы неподобающими и не завоевали бы ей сострадания толпы. Напротив, путь к ее сердцу лежал через смирение и храбрость, и, так как два эти качества были всегда ей присущи, она снискала рукоплескания тем, что просто была самой собой, а быть таковым и до такой крайней степени – величайший, в моих глазах, подвиг.