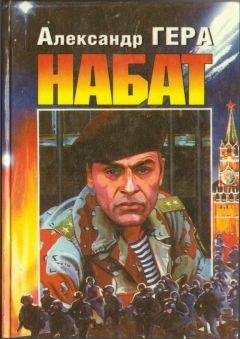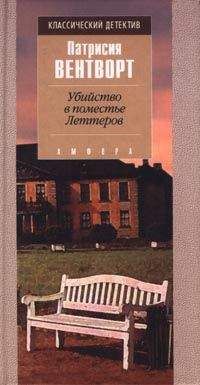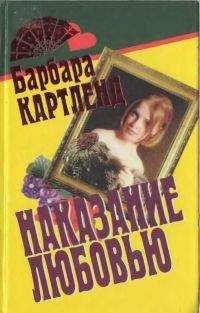Николай Псурцев - Голодные прираки
По тротуару прошла стройная длинноногая девушка в короткой юбке, владелица узких туфель на длинном каблуке, и мне захотелось выпить. Сработал рефлекс: красивая женщина – выпивка – секс. Среднее звено– было сейчас самым доступным. Я вынул из бардачка недопитую бутылку «Чивас Регал» и сделал большой глоток. Не следовало бы сейчас, конечно, пить. Если вдруг для обычной проверки меня тормознет гаишник и учует запах спиртного, то не миновать мне тогда зубов Данкова точно… Так думал бы и прикидывал бы я – обыкновенный, но тот, который следовал своим же словам: «Меняй направления», думал иначе. Например, выпив немного виски, думал я, я буду так мастерски вести автомобиль, что тот гаишник, который должен был бы меня остановить, увидев мое мастерство, даже и не шевельнется, чтобы сделать это. А именно это мне и надо было бы, чтоб не шевельнулся гаишник, потому как нет гарантии, что Данков не передал уже мое фото и мои данные по всем милицейским подразделениям.) Я сделал еще один глоток виски, вытер губы, закурил, положил бутылку обратно в бардачок, кряхтя, порылся в карманах, отыскал в них несколько монеток для телефона-автомата и, не торопясь, попыхивая сигареткой, вылез из машины.
Из тех, у кого на левом запястье была татуировка, изображавшая самурайский меч «Нодати», в Москве жили только двое, кроме меня, разумеется. А всего офицеров с такой татуировкой, на момент, когда прапорщик Храповец накалывал нам ее с помощью изящного никелированного американского аппаратика, было двадцать три человека. Было. С войны не вернулось одиннадцать. Убиты. Расстреляны. Трое покончили с собой. Двое скончались от излишней дозы наркотиков. Девять человек из оставшихся в живых сейчас проживали в других городах, в других республиках, в других странах.
Меч «Нодати» офицеры спецроты разведки решили наколоть себе после очередного занятия по фехтованию на самурайских мечах. «Я впервые за много лет службы встречаю такое братство, – сказал полковник Сухомятов, поднимая до краев наполненный «Белой лошадью» обыкновенный, банальный, граненый стакан, – Двадцать три человека, как одна семья» За три месяца совместной работы я не увидел ни одного недоброго взгляда, брошенного в сторону товарища, я не услышал ни одного дурного слова о ком бы то ни было. И я не почувствовал чьей-то к кому-то зависти. Я уверен, что я не ошибаюсь в своих наблюдениях. И я счастлив, что я не ошибаюсь. Теперь вот что. – Сухомятов оглядел собравшихся за ужином в полевой столовой офицеров. – Помимо того, что мы умеем дружить, мы обладаем еще и рядом иных достоинств. Мы сильны. Мы красивы. Мы отважны. Мы прекрасно обучены. Мы умеем делать то, что не умеют все остальные, кроме нас, в этом мире. И, наконец, мы любим жить опасно. – Полковник еще выше поднял свой стакан. – Я предлагаю поклясться в верности нашей дружбе, Я предлагаю скрепить нашу дружбу кровью. И я предлагаю наколоть каждому из нас татуировку, изображающую символ нашего братства – самурайский меч «Нодати». Я предлагаю… – Полковник поискал что-то глазами вокруг себя, наткнулся взглядом на кувшин, с блеклыми, словно пыльными, никогда, даже после дождя, не пахнущими полевыми цветами. Поманил шуршащими движениями пальцев кувшин к себе. Кувшин подали. Кто-то подал, кто-то один, я не помню, кто. Но это теперь не важно. По-моему, это была официантка Лида. Толстая, белотелая и узкоглазая, всегда в ультракороткой юбке, и завлекательно пританцовывающая, и никогда никем не траханная, и от жалости к себе вечно слезливо моргающая, официанта Лида. Полковник Сухомятов вынул цветы из кувшина и откинул их в сторону, размахнулся кувшином и выплеснул воду из него в другую сторону, сосредоточенный, невеселый, с морщинками под глазами и на лбу. Вылил в кувшин свое виски из стакана, протянул кувшин соседу. И сосед вылил свое виски в кувшин, и сосед соседа вылил свое виски, и сосед соседа вылил. И все остальные, кто сидел за столом, все вылили свое виски из стаканов в кувшин. Увидев, что все стаканы пусты, полковник Сухомятов надрезал десантным ножом себе указательный палец и выдавил кровь в кувшин, вернувшийся к нему после того, как все вылили в него свое виски. Выдавил и передал кувшин соседу. И сосед надрезал палец, и тоже капелька его крови упала в кувшин. И кувшин вновь пошел по кругу. И офицеры выдавливали в него свою кровь из пальцев. И когда не осталось ни одного, кто бы не выдавил свою кровь в кувшин, полковник поднял кувшин и сделал из его несколько крупных глотков и снова, в третий раз уже, передал кувшин по кругу. Офицеры пили и не морщились, и не облизывались, серьезные, бесстрастные, сознающие важность ритуала и его значимость для дальнейшей своей жизни и для дальнейшей жизни своих товарищей. «А теперь, – сказал полковник Сухомятов, грохнув пустой кувшин об пол, – прапорщик Храповец поставит нам на левое запястье наш отличительный знак» И офицеры дружно поднялись и пошли, не торопясь, за прапорщиком Храповцом, который, фиксато улыбаясь, уже хищно пощелкивал своей трофейной никелированной машинкой.
…Войдя в телефонную будку, я первым делом набрал номер не Леши Читина и не Ромы Садика, двух проживающих в Москве своих боевых товарищей, а, конечно же, и не могло быть по-другому, номер Ники Визиновой. «Я забыла, как ты пахнешь. Я забыла, как ты дышишь. Я забыла, какого ты роста. Я забыла, сколько у тебя рук и ног, – сказала мне Ника Визинова, когда услышала мой голос. – Я забыла, как ты выглядишь. Я не помню, кто ты, мужчина или женщина, ребенок ты или зверь. Я не могу представить звука твоего голоса. Но я всегда ясно вижу тебя во сне. Вижу всего. Ощущаю всего. Слышу твой голос и твой запах. Каждую ночь ты появляешься из меня. Ты, обнаженный, очень горячий, очень сильный, очень красивый, выбираешься из моего чрева, с трудом, тяжело и громко дыша, опираясь мускулистыми руками о мои бедра, чертыхаясь и матерясь. И падаешь, обессиленный, меж моих ног и лежишь там долго, отдыхая и переводя дыхание. Потом ты поднимаешься, склоняешься надо мной и говоришь, улыбаясь, как только ты умеешь улыбаться: «Теперь ты. Ты теперь. Теперь ты. Ты теперь…» И ложишься, улыбающийся, рядом со мной. И я начинаю трогать тебя. Я начинаю обнюхивать тебя. Я начинаю внимательно, очень внимательно, пристально, очень пристально разглядывать тебя. Я начинаю искать вход в тебя. Я пытаюсь забраться в твой рот. Не получается. Я пробую залезть в твое ухо, в одно, потом в другое. Я не могу этого сделать. Я хочу влезть в твой глаз. Он не пускает меня. В твой зад. Я не могу просунуть в него даже палец. А. ты смеешься, ты смеешься, ты смеешься. Я изучаю каждый миллиметр твоего тела. Я целую твое тело, Я кусаю его. Я злюсь на него. Я бью его. Я пытаюсь найти вход в тебя. Я пытаюсь и не могу. И тогда обессиленная, как ты недавно, едва дышащая, я кончаю. И просыпаюсь. И понимаю, проснувшись, что счастливо смеюсь. И понимаю, что я счастлива… Я сплю только днем. А ночью я не сплю, – продолжала Ника Визинова. – Потому что ночью дом, в котором я живу, начинает дрожать и дрожит всю ночь. Звенит посуда, бьются тарелки, летают по кухне чашки, а по комнате столы и стулья, с потолка падает штукатурка, вздымается паркет, и из-под паркета кто-то смотрит на меня, и я кричу, и я зову на помощь. Я зову на помощь тебя. Но ты не приходишь… – «Я скоро приеду, – сказал я. – Потерпи немного. Я скоро приеду. И буду любить тебя. И ты перестанешь бояться. Со мной ты ничего не будешь бояться. Потому что я сильный и смогу защитить тебя от всего – от всего» – «Я жду тебя, – сказала Ника Визинова. – Я хочу, чтобы ты пришел ко мне возбужденный, нервный, с лицом, покрытым испариной, и с руками, покрытыми кровью. Я хочу, чтобы ты сказал мне» войдя в квартиру: «Я только что убил человека. Я давно хотел убить его. И я сделал это. Айв данет. Я сделал это». Я хочу, чтобы ты грубо схватил меня за волосы, притянул к себе и поцеловал, прокусывая насквозь мои губы. Я хочу, чтобы ты разорвал мою одежду, чтобы ты сильным ударом повалил меня на пол и с победительным криком вошел в меня. Я хочу… Нет, мальчик мой, я не плачу, – сказала Ника Визинова кому-то, кто был с ней рядом. Сказала в сторону от трубки, потому что голос ее стал на какое-то время тихим и приглушенным. – я не плачу» – «Ты разговариваешь с сыном?» – спросил я. «Да, я разговариваю с сыном, – ответила Ника Визинова, и снова обратилась к мальчику, смеясь через силу. – Я не плачу, но все равно целуй меня. Целуй сильней. Целуй крепче. Целуй, мой мальчик. Целуй. Ты такой нежный, ты такой теплый. Ты мой самый любимый мальчик. Целуй меня. Я хочу, чтобы ты целовал меня, как можно чаще, как можно дольше. Я хочу, чтобы ты трогал меня, чтобы ты гладил меня. Я хочу…» – «Ника, – позвал я женщину, – Ника, – повторил я громче. – Ника, – закричал я, убедившись, что она не слышит меня. – Ника! Ника! Ника!…» Она повесила трубку.
Я стряхнул пот с лица. Достал очередную сигарету. Закурил. Глубоко затянулся. Не без удовольствия выдохнул дым. Я понимаю ее состояние, сказал я себе. Шок еще не прошел. И страх никуда не делся. А она человек не очень сильный. Ей тяжело справиться с собой, Я часто видел на войне людей, которые не могли справиться с собой. Они начинали тогда говорить вслух вещи, которые долго и укромно таились в их подсознании. Они говорили что-то сразу необъяснимое, странное, на первый взгляд несвязанное, нелогичное и, может быть, даже вообще чуждое человеческой природе. Но потом проходило время. Они успокаивались. И становились такими же, как и прежде. И со смехом вспоминали то свое прошлое состояние. Я помню. Я знаю. Я сам принадлежал к числу таких людей – тогда, когда еще не был сильным.