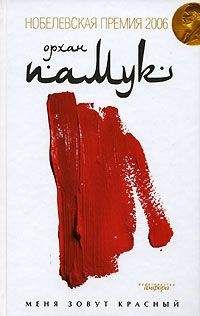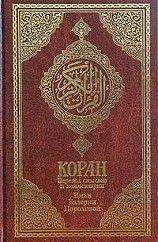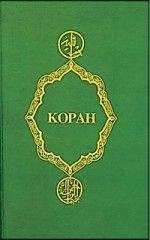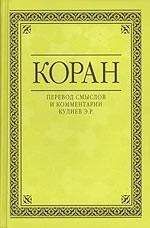Орхан Памук - Имя мне – Красный
– Посвети-ка сюда, – попросил Кара.
Свет лампы упал на очаг и пол рядом с ним, где в луже пролитого кофе валялись обломки кофейных мельниц и весов, сплющенные ситечки и осколки чашек. Кара рылся в углу, где меддах каждый вечер вешал рисунки и где лежали вещи покойного, которыми он пользовался во время выступлений: пояс, платок, погремушка. Сказав, что ищет рисунки, Кара взял у меня лампу и посветил мне в лицо. Да, конечно, я тоже раза два рисовал для меддаха – просто из чувства товарищества. Кроме персидской тюбетейки, которую покойный надевал на тщательно выбритую голову, мы ничего не нашли.
Мы проследовали по узенькому коридору к задней двери и, никого не встретив, вышли в ночную темноту. По всей видимости, этим путем убегали из кофейни художники и прочие посетители, однако схватка кипела и здесь – об этом свидетельствовали перевернутые цветочные горшки и разбросанные по полу мешки с кофейными зернами.
Разгром кофейни, жестокое убийство меддаха и жутковатая ночная тьма сблизили нас с Кара. Как мне казалось, поэтому мы и молчали. Когда мы миновали две улицы, Кара передал мне лампу, а потом вдруг приставил к моему горлу кинжал.
– Сейчас мы пойдем к тебе домой, – сказал он. – Я хочу его обыскать, чтобы успокоиться.
– Да обыскивали уже, – ответил я и замолчал.
Гнева я не чувствовал, только презрение. То, что Кара поверил в гнусные слухи обо мне, лишь доказывало, что он самый обыкновенный завистник, вот и все. Да и кинжал он держал не очень-то уверенно.
Мой дом находился в направлении, прямо противоположном тому, в котором мы двигались, выйдя из задней двери кофейни. Поэтому, чтобы не встретиться с толпой, мы обогнули кофейню по широкой дуге, сворачивая то направо, то налево, пробираясь переулками и садами, в которых стоял грустный запах влажных одиноких деревьев. Со стороны кофейни все еще доносился шум голосов. Было слышно, как по улицам бегают люди эрзурумского проповедника, их преследовали янычары и ночные сторожа. На половине пути Кара сказал:
– Мы с мастером Османом провели два дня в дворцовой сокровищнице. Смотрели на дивные рисунки старых мастеров.
Я промолчал, а потом, когда до дома оставалось всего ничего, заговорил нарочито громко:
– Даже если художник, достигший возраста мастера Османа, сядет за одну доску с Бехзадом, толку не будет. Увиденное лишь порадует его глаза, даст покой душе или наполнит ее волнением, но мастерства у него от этого не прибавится, ибо рисуют не глазами, а рукой, – рука же с большим трудом учится чему-то новому не только в возрасте мастера Османа, но даже и в моем.
Я чуть не кричал, но не потому, что опасался этого самодовольного болвана с кинжалом в руке, просто хотел, чтобы поджидающая меня красавица-жена услышала, что я иду не один, и не столкнулась у двери с Кара.
Когда я открывал калитку, мне показалось, что в доме мелькнул свет, но потом, хвала Аллаху, все погрузилось в полную темноту. В дом, где я проводил все дни, все свое время за работой, пытаясь увидеть и нанести на бумагу мир, запечатленный в памяти Аллаха, а когда уставали глаза, предавался утехам с моей драгоценной красавицей, – в мой милый дом я должен был войти в сопровождении этого негодяя с кинжалом в руке. Это вторжение в мою жизнь показалось мне таким грубым, что я поклялся отомстить Кара.
Кара переворошил мои бумаги, посмотрел рисунок, работа над которым подходила к концу (осужденные должники умоляют султана о милосердии, и тот повелевает освободить их), затем перебрал все, что лежало рядом с рабочей доской: краски, подставки для книг, перочинные ножи, кисти, бруски для лощения бумаги, коробки для перьев, ножницы; светя себе лампой, заглянул в шкаф, в сундуки, приподнял ковер и каждую подушку, а потом пошел по второму кругу. Обыскивал он не дом, как грозился, когда наставил на меня кинжал, а только мою мастерскую – как будто я не мог спрятать все, что хотел, в другой комнате, откуда сейчас за нами наблюдала моя жена.
– Последний рисунок из тех, что делались для книги Эниште, пропал, – сказал Кара. – Очевидно, его украл убийца.
– Этот рисунок отличался от других, – отозвался я. – Покойный Эниште попросил меня нарисовать на нем дерево – на заднем плане. Передний же план, его центр, отводился для большого изображения человека, по всей видимости султана. Место для него оставили, но самого изображения еще не было. Дерево я нарисовал маленькое, потому что на этом рисунке, как принято у европейцев, находящиеся на заднем плане предметы должны были выглядеть меньше тех, что на переднем. От этого возникало впечатление, будто смотришь не на рисунок, а в открытое окно. Я тогда понял, что в рисунке, выполненном по законам перспективы, рамка и заставка с орнаментом играют роль оконной рамы.
– Рамку и заставку делал Зариф-эфенди.
– Ты хочешь спросить, не я ли его убил? Нет, не я.
– Кто же по доброй воле признается, что убил человека, – пробормотал Кара и тут же спросил меня, что я делал рядом с кофейней, когда ее громили.
Лампу он поставил среди моих бумаг и страниц с рисунками, рядом с подушкой, на которой я сидел, так, чтобы мое лицо было освещено, а сам быстрыми шагами расхаживал по темной комнате.
Я рассказал ему все то же, что говорил и вам: в кофейне я бывал редко, а сейчас оказался рядом с ней и вовсе по случайности, просто проходил мимо; затем я прибавил, что, хотя и сделал для меддаха два рисунка, на самом деле мне вовсе не нравилось творившееся в кофейне.
– Если искусство черпает силу не в даровании художника, в его любви к рисунку и стремлении приблизиться к Аллаху, а в желании посмеяться над дурными сторонами жизни и осудить тех, по чьей вине они существуют, в конце концов оно унизит и накажет самое себя. И тут не важно, над кем ты издеваешься – над проповедником из Эрзурума или хоть над самим шайтаном. Кстати, если бы в кофейне помалкивали про эрзурумца, может быть, сегодня вечером ее и не разнесли бы.
– И все-таки ты туда ходил, – сказал Кара. Вот негодяй!
– Ходил, потому что там можно было развлечься. – Понимал ли Кара, насколько я сейчас честен? – Таковы уж мы, потомки Адама: разум и совесть могут сколько угодно говорить нам, что делать то-то и то-то нехорошо, неправильно, а мы все равно делаем и получаем от этого большое удовольствие. Вот и я получал удовольствие от этих дешевых рисунков, передразниваний, грубых – ни ладу ни складу – рассказов о шайтане, деньгах и собаках. Я всегда стыдился этого.
– Если стыдился, почему продолжал ходить в это логово безбожников?
– Ладно, – проворчал я, подчиняясь велению внутреннего голоса, – расскажу все как есть. После того как вслед за мастером Османом сам султан открыто признал, что я даровитее всех художников мастерской, я стал опасаться чужой зависти. Чтобы не злить завистников еще больше, я стараюсь хотя бы иногда ходить туда, где они бывают, общаться с ними, подлаживаться под них. Понимаешь? С тех пор как молва записала меня в приспешники эрзурумца, я стал заглядывать в этот жалкий притон безбожников. Именно для того, чтобы опровергнуть слухи.
– Мастер Осман говорил, что ты часто ведешь себя так, словно извиняешься за свой дар и мастерство.
– А что еще он обо мне говорил?
– Что ты делал глупые, никому не нужные рисунки на рисовых зернышках и ногтях, чтобы убедить всех, что ради искусства ты отказался от радостей жизни. Что ты стесняешься данного тебе Аллахом таланта и изо всех сил стараешься понравиться окружающим.
– Мастер Осман талантлив, как Бехзад, – сказал я искренне. – Говорил ли он еще что-нибудь?
– Он открыто называл твои недостатки, – заявил негодяй Кара.
– Какие же?
– Ты одарен необычайно, но работаешь не из любви к рисунку, а из желания понравиться. За работой ты радуешься, представляя себе, какое наслаждение получат те, кто увидит твой рисунок, в то время как радовать художника в первую очередь должно само рисование.
Я был уязвлен тем, что мастер Осман не задумываясь поделился своим мнением обо мне – и с кем? Даже не с художником, а с человеком, который всю свою жизнь работал писарем и письмоводителем, угодничал перед пашами и вельможами. А Кара продолжал:
– Мастер Осман говорил, что великие мастера былых времен никогда не отказывались от стиля и приемов, обретенных трудом всей жизни, ради того, чтобы угодить новому шаху или вкусам нового времени. Если их пытались к этому принудить, они отважно ослепляли себя. Вы же, забыв о чести, охотно принялись подражать европейским мастерам, когда Эниште предложил вам работать над его книгой, – потому что так, мол, угодно султану.
– Уверен, что великий мастер Осман, говоря это, не имел в виду ничего плохого, – промолвил я. – Пойду заварю гостю липового чаю.
Я прошел в соседнюю комнату. Моя милая женушка, одетая в купленную у торговки Эстер ночную рубашку из китайского шелка, бросилась мне на шею, передразнила: «Заварю гостю липового чаю!» – и положила руку на мой «камыш».