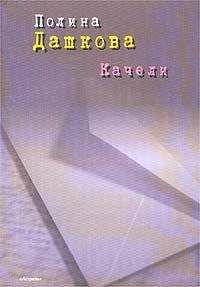Полина Дашкова - Приз
Штраус открыл портфель, достал небольшую картонную коробку, протянул Геббельсу.
— Здесь десять штук. Вы просили восемь, я положил еще две, на всякий случай.
— Благодарю вас, доктор.
— Вы уверены, что хотите дать это детям? У меня есть возможность вывести их отсюда и передать под опеку Красного Креста.
Штраус не собирался говорить этого. Оно вырвалось само, он едва успел перехватить, перевести на немецкий, иначе эти две простые фразы прозвучали бы по-русски, они разрывали ему не только мозг, но и гортань.
— Еще раз благодарю, — сухо ответил Геббельс, — мы с Магдой приняли решение и не собираемся его менять.
— Господа, кто-нибудь может сказать, который час? — прозвучал на лестнице глухой голос Бормана.
Никто не мог. У всех остановились часы. Стрелки застыли на двенадцати.
— Это, наверное, как-то связано с вибрацией из-за бомбежки, — пропыхтел умник Геринг.
Фюрер ждал Штрауса в бункере, в своем кабинете. Штраус брезговал подходить к нему близко, но осмотреть все-таки пришлось. Было неприятно притронуться к страшной, изъеденной экземой, коже великого вождя. Тело его имело странный, зеленовато-багровый оттенок и уже мало напоминало человеческое.
— Кругом ложь и предательство, — говорил он чуть слышно, пока руки доктора щупали его живот, — все хотят, чтобы я покинул Берлин. Нет. Я останусь.
Заглянуть в горло вождю было крайне сложно, так сильно тряслась его голова.
— Кругом ложь и предательство, — повторил он, как только осмотр закончился. — Я останусь здесь. Или я выиграю битву за Берлин, или погибну в Берлине.
Когда он говорил, все в нем клокотало, гудело, поскрипывало, как будто сквозь тихие звуки человеческого голоса проступал натужный скрежет последних оборотов сломанного механизма. Несколько раз, как заевшая пластинка, он повторил: ложь и предательство.
«Протянет еще дней десять, не больше», — решил Штраус.
Василису затошнило. Она думала о шестерых маленьких детях, которые находились здесь, где-то совсем близко.
«Какие дети?» — раздраженно спросил себя Штраус. Но, покосившись на часы, понял, почему дети Геббельса все не выходят у него из головы.
— Вы не забыли о моих собаках? — спросил Гитлер.
— Нет, мой фюрер. Не забыл, — ответил Штраус и положил на стол картонную коробку с капсулами.
Когда генерал покидал кабинет, позади него прозвучал скрипучий механический голос:
— Нас только двое в мире. Двое гигантов.
— Простите, вы о ком, мой фюрер? — спросил Штраус.
— О Сталине.
«Ты подумал, он имеет в виду тебя? Ты правда решил, что тебя он считает гигантом, равным себе?»
Штраус зажал уши ладонями. Его шатнуло к стене. Еще один шаг, и он ударился бы головой о притолоку.
— Что, так плохо, доктор? — услышал он рядом живой женский голос с приятным баварским выговором.
В маленькой гостиной, смежной с кабинетом Гитлера, за столом сидела молодая белокурая женщина, пухленькая и свежая. Круглое лицо было напудрено, на губах блестела красная помада. Короткие волосы аккуратно завиты и уложены.
— Добрый день, фройлен Браун, — откашлявшись, уронив руки, сказал Штраус.
— Сядьте и расскажите, — приказала Ева и принялась подпиливать свои длинные ногти серебряной пилкой. Штраус послушно опустился в кресло напротив.
— Сожалею, но порадовать мне вас нечем.
— Что-то еще можно сделать, чтобы облегчить его страдания, поддержать в нем силы? — пилка вопросительно замерла и тут же занялась следующим ноготком.
— Глюкоза, витамины, — Штраус пожал плечами и добавил, кашлянув: — свежий воздух. Больше прогулок на свежем воздухе.
Ева удивленно вскинула тонкие, как ниточки, брови.
— О чем вы говорите? На улице бомбят и стреляют.
— Простите, фройлен, тут я бессилен, — Штраус поднялся.
Ему надо было скорее уйти. В голове у него опять зазвенело, громко и требовательно: «Дети. Шесть маленьких детей. Младшей девочке три года».
— Вы уже уходите, доктор? — разочарованно спросила Ева.
— Да, фройлен.
— Бедный, бедный Адольф. — Ева принялась за следующий ноготок, от быстрых движений пилки рябило в глазах. — Все его оставили, все изменили. Лучше пусть погибнут сто тысяч других, чем он будет потерян для Германии. Германия без Гитлера не пригодна для жизни. Подождите, доктор, вы можете мне сказать, который час? У нас здесь почему-то сломались сразу все часы.
— Я не знаю, Ева. Мои тоже стоят.
— Да? Это странно. Послушайте, Отто, а вы придете к нам на свадьбу? — она, наконец, оставила в покое свои ноготки, отложила пилку. В руках у нее появилось хорошенькое ручное зеркало и золотой футлярчик с губной помадой.
— На свадьбу? — удивленно переспросил Штраус.
— Вы разве не знаете? Адольф, наконец, сделал мне предложение. Совсем скоро я стану фрау Гитлер.
— Поздравляю, — кивнул Штраус и быстро вышел.
Ему пришлось пройти через столовую. Там за столом сидел генерал Кейтель и сосредоточенно ел что-то жидкое и мутное из красивой фарфоровой тарелки.
— Добрый день, доктор. Хотите супу? Гороховый. Очень вкусный. Фюрер распорядился, чтобы приготовили.
— Спасибо, Вилли. Не хочу.
Прежде чем покинуть канцелярию, Штраус раздал еще десяток картонных коробок. Химический состав оболочки капсул он разработал сам. Если капсулу случайно проглотить, ничего не случится. Оболочка не растворится в желудочном соке. Но если разгрызть — наступит мгновенная смерть.
Когда он шел к выходу, до него донеслись тихие детские голоса. Дети Геббельса гуляли в закрытом внутреннем дворе канцелярии.
«Забери их отсюда! Забери детей, ты, чудовище!»
Ему до смерти надоел этот глупый голос. Голова пульсировала, разрывалась болью, перед глазами стояла густая пелена. Несколько раз он споткнулся на лестнице и чуть не упал.
На воздухе ему стало легче.
«Погибли миллионы детей. Что тебе дались эти шестеро?» — подумал он, еще не отдавая себе отчета, что вступает в диалог с неведомым бесплотным существом, от которого никак не может отвязаться.
— В машине его ждал Гиммлер. Шофер вышел и открыл дверцу.
— Садись, Отто, скорее! — нервно прошептал Гейни. — Скоро начнется налет, мы не успеем!
Но Штраус медлил. Он стоял, смотрел сквозь Гиммлера, не моргая. Губы его едва заметно шевелились. Он бормотал:
— Я не понимаю, почему тебя так волнует судьба этих шестерых, когда погибли миллионы? Объясни, я не понимаю. Это же простая арифметика.
«При чем здесь арифметика? Там остались дети!»
— Что с тобой, Отто? С кем ты разговариваешь?
— Не знаю, Гейни. Кажется, с самим собой. — Он сел наконец в машину, рядом с Гиммлером, крепко зажмурился, потряс головой, пытаясь вытряхнуть из мозга чужой голос, чужие мысли.
Машина тронулась. Следовало спешить, пока не начался очередной налет. Штраус приоткрыл окно. В ноздрях все еще стоял запах разлагающейся плоти, знакомый по концлагерям. Но даже там так не воняло, как в рейхсканцелярии 20 апреля 1945 года, в последний день рождения Гитлера.
— Что за черт! Сломались они, что ли? — медсестра Надя пыталась подкрутить колесико своих наручных часов.
У нее не получалось. Колесико заклинило. Все три стрелки почему-то сомкнулись на двенадцати и замерли. Этого не могло быть. Надя знала, что сейчас без чего-то шесть вечера. Часы были дорогие, новые, настоящая швейцарская «Омега». Надя купила их всего месяц назад, и то, что они сломались, вывело ее из себя.
— Ну, блин! — крикнула она, и шарахнула кулаком по столу так, что подпрыгнул деревянный стаканчик с карандашами. — Неужели китайская подделка? Я же в магазине покупала, не на рынке, твою мать!
Она схватила свой мобильный, хотела по нему узнать время, но увидела мертвый зеленоватый экранчик. Попыталась включить. Без толку.
— Да что же это такое! — она стала материться, громко, зло и беспомощно.
Надя была аккуратной девушкой, рассеянностью не страдала. В ее мобильнике батарея неожиданно сесть не могла, она заряжала ее регулярно, согласно инструкции.
Василиса лежала на диване с открытыми глазами и смотрела в потолок. Комнату сотрясал громкий сердитый голос Нади. Через открытое окно был слышен собачий лай и нудный вой чьей-то сигнализации. Надя тяжелым мужским шагом отправилась на кухню курить. Василиса не заметила, что ее больше нет в комнате, не услышала, как она вернулась со своей сумкой в руках, достала упаковку со шприцем и коробку с ампулами.
Она не могла избавиться от нестерпимой вони, хотя воздух в комнате был чистым и свежим. Она еще долго слышала тихие, далекие голоса шестерых детей, оставшихся в бункере рейхсканцелярии в апреле 1945 года.
* * *Григорьев столкнулся с Рики в коридоре госпиталя.
— О, князь! Рад вас видеть! — Рики приветствовал Андрея Евгеньевича ослепительной улыбкой и нежным женским рукопожатием. — Гейни ждет вас с нетерпением.