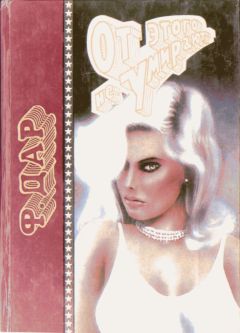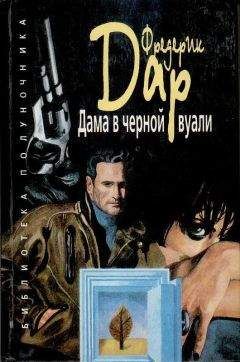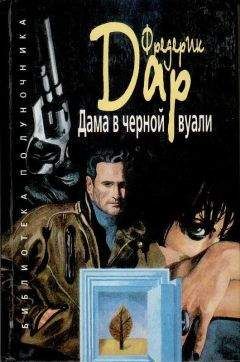Фредерик Дар - От этого не умирают.
Я лежал, закинув руки за голову, и смотрел в потолок, на грязноватой белизне которого расплылось влажное, непонятных очертаний пятно. Уже давно я вообразил себе, что это некий волшебный берег и мысленно переселялся туда… Там, в золотой лагуне, я забывал о неприятностях реальной жизни.
— Я хочу немного прогуляться, Кати, размять ноги. Ужас до чего я чувствую себя тяжелым сегодня!
Она покачала головой.
— Не надо, Боб. Ты прекрасно знаешь, такое чувство появляется у тебя, всякий раз… Это от волнения. Как только перешагнешь через канаты, снова станешь легким как бабочка.
— Ты так думаешь?
— Я в этом уверена…
Я погрузился в свои мысли, словно в теплую грязную лужу. И снова представлял себе этот проклятый бой… Видел, как на меня обрушиваются, причиняя мне боль, неотразимые удары… Они внушали мне страх. Но ловкости и мне не занимать, и у меня неплохо получаются прямые, я славлюсь своими сериями, изматывающими противника… Но мне вовсе не хотелось наносить удары по золотистой коже Жо… Жо был мне симпатичен… Я всегда считал его своим учеником…
В полдень я плотно, но без аппетита поел, потом, немного поспав, принял душ, и Кати сделала мне массаж. Затем мы поехали в Париж… Существовал ритуал, который я свято соблюдал: перед каждым матчем я шел в кино… Это купание в полумраке, сопровождаемое глупой болтовней на экране, часто успокаивало мне нервы…
Мы с Кати отправились в небольшой кинотеатр в Вожираре, где демонстрировалась простенькая комедия… Когда мы вышли после фильма на улицу, уже было темно. Кати захватила с собой сэндвичи — она всегда заставляет меня есть их перед матчем… Толстые куски холодного мяса между двумя ломтиками бретонского хлеба. Потом я выпил в баре натуральный грейпфрутовый сок и сгрыз с десяток кусочков сахара. Физически я чувствовал себя хорошо, но тоска сжимала мне сердце.
Мы ни о чем не говорили. Что мы могли сказать? Что может сказать человек, у которого поставлена на карту его карьера и которому предстоит за нее сражаться в течение нескольких строго отмеренных минут?..
Я должен был выйти на ринг около десяти (если только, как указывалось в программке, предварительные встречи не закончатся нокаутом). В восемь я вошел в свою раздевалку. Монтескью, которого я попросил прийти к этому часу, уже ждал меня со своими мазями и примочками. Раздевшись, я вытянулся на массажном столе, от которого несло прогорклым маслом… Какой-то затхлый дух, стоящий в этих раздевалках, всегда вызывал у меня отвращение. Пахнет потом, грязным бельем, мазями; теплый, наполненный водяным паром воздух… Кати готовила мою форму… Я выступаю в светло-голубых с белой отделкой трусах, а когда выхожу к рингу, на плечи у меня наброшен белый шелковый халат с широкими рукавами и с моим именем, выведенным голубыми буквами на спине. Единственная дань кокетству — белого цвета боксерки. Строгая, элегантная форма… Она идет к цвету моей кожи. Кати утверждает, что при свете ламп моя кожа делается цвета охры, как в фильмах, снятых на пленке «Жеваколор». В газетных репортажах всегда упоминалась моя элегантность, она также является составной частью моего имиджа.
За два дня до матча я постригся покороче, а «на сцене» я появлялся всегда с растрепанной шевелюрой. По-моему, прическа — самый важный показатель для публики. Есть боксеры, которые выходят на ринг причесанные волосок к волоску, сбоку — безукоризненный пробор… Через несколько минут прическа, разумеется, приходит в полный беспорядок и создает впечатление, будто боксеру здорово досталось, даже если это не так…
У меня были почти зашнурованы боксерки, когда в раздевалку влетел Бодо.
— Ах, ты готов? Малыш тоже. Хочешь его повидать?
Поколебавшись, я сделал рукой отрицательный жест.
— Мы и так сейчас увидимся, Бодо…
— Ну да… Ты прав… Он жутко волнуется, бедный парнишка!
— Я, если угодно, не меньше…
— Послушай, Боб, не хочу к этому возвращаться, но мне кажется, такие ребята, как вы, должны закончить матч вничью, ты меня понимаешь?
— Такие ребята, как мы, Бодо, сделают то, что должны сделать… Кстати, в чьем углу вы будете находиться? Ведь вы не обладаете даром быть всюду одновременно…
Он смутился.
— Мы бросим монету, Боб, не хочу, чтоб создалось впечатление, будто я отдаю предпочтение кому-то из моих мальчиков… Вторым секундантом будет Стефани…
Я покачал головой.
— Не трогайте свою монету, еще потеряете! Будете помогать Жо, это естественно… Я-то стреляный воробей, мне уже не нужны советы…
У него будто гора с плеч спала.
— Как скажешь… Спасибо за него…
Появился Стефани, сама наивность. Когда-то он выступал в легчайшем весе, но, добившись весьма скромных успехов, рано оставил бокс и стал помогать Бодони. Вид у него был чахлый, и казалось, он гниет изнутри. Я его всегда недолюбливал, и он мне платил той же монетой. Однако, надо признать, глаз у него был острый, наметанный. Он, как никто, умел подметить слабость противника и подсказать тебе брюзгливым тоном: «У него устала левая!» или же «Он в предциррозном состоянии!», что, как вы поняли, означало, твой соперник плохо переносит удары в печень.
Что касается манеры одеваться, Стефани до крайности подражал патрону. Он тоже щеголял в голубых брюках и свитере, считая, видимо, что таким образом лучше подчеркивается единство команды.
Перед тем как нам выйти на ринг, состоялась встреча боксеров полусреднего веса… Оба — жалкая посредственность. Голдейн, будучи уверенным, что один наш матч обеспечит полный сбор, не потрудился обставить его получше. Несчастные парни безрезультатно топтались на ринге все шесть положенных раундов и были освистаны, как безголосые теноры. Шум из зала доносился до раздевалок… Меня устраивало, что нашей встрече предшествует такой неинтересный матч… Публика, руководствуясь естественным чувством самозащиты, в таких случаях к вам настроена благожелательно, поскольку бокс, который демонстрируют спортсмены вроде нас с Андриксом, выше на сто порядков.
По тем шиканью и свисту, которые доносились до моих ушей, я понял, что зал полон.
— Похоже, народу хватает, а? — прошептал я.
Стефани поморщился.
— Ни одного свободного места, старина… Голдейн рвет на себе волосья. Говорит, что кресла у ринга мог бы продать по восемь кусков без проблем…
— Этот надутый индюк всегда прикидывает, сколько он теряет, вместо того чтоб подсчитывать прибыль!
— Не волнуйся, подсчитает!
Я повернулся к Кати.
— Ну как, собираешься присутствовать на кровавом поединке в кругу семьи?
Кати, бледная как смерть, все же постаралась улыбнуться.
— Да, Боб…
Я нежно поцеловал ее в губы. Они были холодны, как и мои. Потом, отвернувшись, я, как обычно, перекрестился. Есть такие, кто крестится на ринге, публике, всегда жадной до сантиментов, это нравится, но я не признаю показухи… Не подумайте, однако, что я какой-нибудь святоша… Просто сохранил с детства нечто вроде веры, которая дает о себе знать в самые ответственные минуты. Кати это не нравится, она считает это слабостью…
Бодо, вернувшийся после нашего разговора к Жо, приоткрыл дверь.
— Давай, gо[3]! — бросил он…
Мы вышли: Монтескью, Стефани, Кати и я. Остальные нас опередили и, попав во власть исступленно орущего зала, приближались к освещенному квадрату.
Затем предстали перед публикой и мы…
— Это Тражо! — закричали люди…
Обычно боксеры идут к рингу пританцовывая, чтобы разогреться. А я со своей стыдливостью никогда на это не решался. Я торопливо шагаю по проходу, образованному из стоящих двойным рядом полицейских. Как можно быстрей поднимаюсь по узким ступенькам, перешагиваю через канаты и коротким кивком приветствую зал.
Потом в ожидании сажусь…
Пока диктор болтал, сообщал о нашем весе, Жо стоял в своем углу. Он улыбался мне.
Публике представили других чемпионов, которые с неловким видом жали нам руки, желая обоим успеха… Затем рефери пригласил нас на середину ринга. Произнес обычную чепуху… Мы, как положено, кивнули. Вместо того чтоб обменяться рукопожатием, мы, — наверное, это было глупо — обнялись… Публика взревела от восторга.
Я отправился в свой угол и, пока Стефани засовывал мне в рот капу, осмотрелся в надежде отыскать взглядом Кати… Но не нашел. Я понятия не имел, где она, бедная, спряталась. Заметить ее в этой огромной толпе было невозможно. Внизу у моих ног на скамейке для журналистов я увидел Макса Фавалелли, он мне по-дружески подмигнул. Возможно, ничего в этом особенного по сравнению с жаркими приветствиями зрителей, но мне было приятно, ибо я знал, что это, по крайней мере, искренно. Публика через мгновение с тем же жаром выразит мне свое презрение, если я пропущу удар… Она переменчива, словно флюгер.
Рефери щелкнул пальцами, и мы сбросили с себя халаты. Затем он подал знак судье-хронометристу, и раздался удар гонга — эффект был такой, словно мне выплеснули на голову ведро ледяной воды.