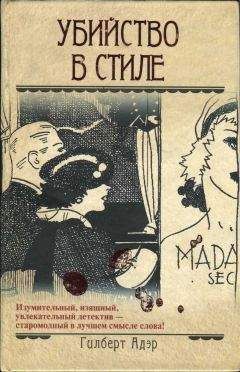Михаил Черненок - Архивное дело
— Вы не беседовали с Половниковым?
— Пробовала, но Федор Степанович сказал, что ничего не помнит о коллективизации и Жаркова не знает.
— Не помнит?.. — Антон вновь задумался. — В тридцать первом году Федору было лет четырнадцать. В таком возрасте память цепкая.
— Дед Лукьян предполагает, будто Половников по религиозным соображениям не хочет вспоминать о коллективизации. Говорит, мать у Федора Степановича очень религиозной была и сыну веру свою внушила.
— Кстати, Лариса, а ваш дед не упоминал о костылях, обнаруженных у Половникова?
— Когда я сказала об этом деду, он усмехнулся: «Торчков нагородит тебе семь бочек арестантов, только уши развешивай».
— А Инюшкина не спрашивали?
— Арсентий Ефимович тоже уклончиво ответил: «Кумбрык всегда слышит звон, да не знает, где он».
Бирюков взял со стола фотографию Жаркова. В отличие от других фотоснимков, собранных Ларисой, жарковский снимок сохранился хорошо. Сделан он был профессиональным старым мастером, что называется, на высоком уровне. Объектив запечатлел буквально каждую морщинку в уголках весело прищуренных глаз, каждый волосок аккуратно подстриженных коротких усов, какие обычно носили российские моряки и солдаты в предреволюционные годы. Антон долго всматривался в фотоснимок, пытаясь по внешним признакам определить скрытые пороки запечатленного на снимке человека, но волевое, лицо Жаркова было настолько безупречным, что, казалось, будто именно с него современные художники рисуют матросов на праздничных плакатах и открытках.
— Я возьму на время эту фотографию, — сказал Бирюков. — Как только наш фотограф ее переснимет, сразу верну.
— Пожалуйста, берите, — ответила Лариса и умоляюще попросила: — Антон Игнатьевич, если узнаете что-то новое о Жаркове, сообщите мне.
— Непременно сообщу.
Глава 5
У колхозной конторы возле трехтонного самосвала с голубой кабиной участковый инспектор Кротов, сурово помахивая пальцем, делал внушение вихрастому парню в коричневой куртке на «молниях» и в джинсах. Бирюков еще издали узнал разбитного шофера Серебровской бригады Сергея Тропынина, прозванного за неуемную энергию и суетливость «Торопуней».
— Лихачит, понимаете ли, — смерив строгим взглядом парня, сказал подошедшему Бирюкову Кротов. — Сегодня утром раздавил гусака, принадлежащего Федору Степановичу Половникову.
Антон, поздоровавшись с участковым, протянул руку Тропынину:
— Ты что же, Сергей, неприятности землякам причиняешь?
— Бывает… — Тропынин смущенно потупился. — План надо делать, а тут порасплодили кур да гусей — по деревне не проехать.
— Другие нормально ездят. Ты же всегда гонишь, сломя голову, — с прежней строгостью проговорил участковый.
— Да расквитаюсь я с Половниковым. Скажу матери, чтобы своего гусака ему отнесла. А за куриц, Михаил Федорыч, хоть ругай — хоть нет, отвечать не буду! Разве это порядок, когда едешь по селу, как по птицефабрике? Уши закладывает от кудахтанья…
— Куры к тебе приноровились. В один конец села въезжаешь — в другом они уже по дворам, как от коршуна, разбегаются, — Кротов сурово кашлянул. — Смотри, Сергей, долихачишься! А теперь не трать время, кати к комбайнам.
Тропынин словно того и ждал. Ковбойским прыжком он вскочил в открытую дверку кабины самосвала. Взревев мотором, самосвал тотчас круто развернулся и, подняв пыльное облако, мгновенно скрылся за деревней.
— Неисправимый… — глядя на оседающий шлейф пыли, покачал головой участковый. — Придется для профилактики талон предупреждений лихачу продырявить.
— Что нового в Серебровке? — спросил Бирюков.
Кротов пожал плечами:
— Можно сказать, новостей — нуль. Старики, будто встревоженные пчелы.
— Ну и что говорят?
— Переливают из пустого в порожнее. Если бы не железный протез, сходятся на том, что Жарков… Однако с протезом — полная загадка.
— Как бы нам ее разгадать, а!..
— Не представляю. Прокурор все-таки надумал возбудить уголовное дело?
— Нет, меня просто по-человечески заинтересовала судьба Жаркова. Вы отца Федора Степановича Половникова помните?
Кротов за козырек натянул поглубже фуражку:
— Знавал я дядьку Степана. Богатырского сложения был мужчина, но умер внезапно.
— Причина?..
— В ту пору все скоропостижные смерти объясняли так: «Чемер хватил». С точки зрения современной медицины, полагаю, инфаркт свел Степана Половникова в могилу.
Антон помолчал:
— Как бы, Михаил Федорович, мне с дедом Лукьяном Хлудневским повидаться?
— Утром Лукьян находился дома, — участковый взглядом показал на стоявший у крыльца колхозной конторы желтый служебный мотоцикл. — Если надо, разом домчимся до Серебровки…
Бирюков хотел было, не откладывая, принять предложение Кротова, но, увидев вышедших из сельмага Инюшкина и Торчкова, помедлил с ответом. Старики, отчаянно споря, направились к ним. Не дойдя шага три, Торчков бодро вскинул к помятому козырьку серой кепчонки сложенную лодочкой ладонь и на одном дыхании выпалил:
— Здравия желаю, товарищи офицеры милиции!
— Здравствуйте, уважаемые пенсионеры, — стараясь не рассмеяться, сказал Антон. — О чем спор ведете?
Торчков чуть замялся:
— Проблемный вопрос, Игнатьич, не дает мне покоя. Арсюха ответить на него не в состоянии. Может, ты скажешь: как в Америке положение с банями?
— С какими?
— Ну это… с обыкновенными, в каких мы по субботам моемся.
Бирюков все-таки не сдержал улыбки:
— Думаю, Иван Васильевич, в банном вопросе у американцев проблемы нет.
— Ну, а парятся они, как русские мужики — до изжоги, или только для отвода глаз, чтобы очередь отвести? И опять же: березовых веников у них, наверно, кот наплакал…
Участковый подозрительно глянул на Торчкова:
— Ты, Иван, случайно, не отоварился у Паутовой черносливным компотом?
— Перекрестись, блюститель закона! У меня теперь это… Как говорят по телеку, трезвость — норма жизни.
— А чего каверзные вопросы задаешь?
— Какие хочу, такие и задаю. Застольное время давно кончилось, а ты по старым меркам живешь, не можешь привыкнуть к гласности.
Участковый усмехнулся:
— Наверно, хотел сказать «застойное» время?
— Кротов, я никогда не двуличничаю, как другие. Что хотел, то и сказал. В чем в чем, но в застольных делах мы на месте не стояли, а неуклонно росли вверх. Советую тебе телек почаще смотреть. Там теперь все доступно объясняют, — мигом вывернулся Торчков и брезгливо сплюнул в сторону. — А насчет причисленного тобою к алкоголю компота скажу прямо: сто лет видал я тот прокисший компот! Мне вчерась Матрена привезла из райцентра десять бутыльков психоколы.
— Чего, Вань?.. — быстро вклинился в разговор Арсентий Ефимович Инюшкин.
— Чего? Чего?.. — передразнил Торчков. — Не прикидывайся валенком! Вроде не знаешь американскую газировку в бутылочках…
Инюшкин утробно хохотнул:
— Во когда я смикитил, почему ты Америкой заинтересовался. Значит, с наших яблочных напитков перешел на американские. Та газировка, Ваня, пепси-колой называется.
— Чо, шибко грамотным стал?
— Читать умею.
— Иди ты, Арсюха, со своими подковырками в пим дырявый!
— А ты, Ваня, шел бы со своими вопросами в баню…
Торчков с неподдельным изумлением глянул на Инюшкина, покрутил указательным пальцем у виска и повернулся к Бирюкову:
— Ненормальный. Чо с него возьмешь?..
— Не горячитесь. Проблемные вопросы надо решать спокойно, — стараясь примирить стариков, сказал Антон, однако Торчкова уже занесло:
— Игнатьич! Лично с тобой могу беседовать хоть до третьих петухов, а зубоскал Арсюха не заслуживает моего внимания ни на минуту. Я категорически осуждаю его недостойное поведение! — И, шаркая стоптанными сапогами, засеменил вдоль деревни к своему дому.
Инюшкин затрясся от внутреннего смеха. Зная неуемную натуру Арсентия Ефимовича насчет всевозможных розыгрышей, Антон улыбнулся:
— Зря обидели веселого человека.
Арсентий Ефимович, сдерживая смех, закрутил лысой головой:
— Нет, Антон Игнатьевич, Кумбрык не обидчивый, он заполошный. Сегодня же вечером придет ко мне с новой проблемой, например: «Почему при передаче телемоста американцы разговаривают с нашими людьми на своем языке, а смеются по-русски? Откуда они русский смех знают?» Ей-богу, мы с ним уже не один вечер потратили на решение подобных проблем. С Ваней не заскучаешь…
Бирюков пригласил Инюшкина в кабинет участкового, чтобы переговорить с ним, как советовал дед Матвей, о Жаркове. Едва Антон заикнулся о первом председателе колхоза, лицо Арсентия Ефимовича посерьезнело, а гусарские усы будто ощетинились.