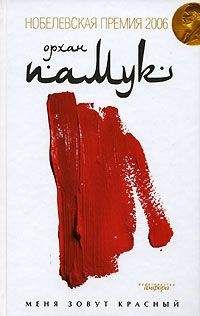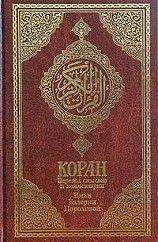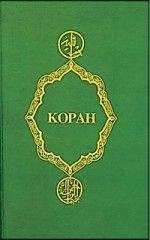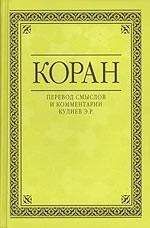Орхан Памук - Имя мне – Красный
Раньше мне несколько раз случалось видеть работы Бехзада, но то ли потому, что смотрел я на эти рисунки не один, а вместе с другими мастерами, то ли потому, что мы не были до конца уверены, принадлежат ли они именно Бехзаду, тогда я не был настолько потрясен.
Тяжелый, пропахший плесенью сумрак сокровищницы словно бы отступил перед исходившим от рисунка светом. Прекрасная рука, изображенная на миниатюре Бехзада, и недавно виденная рука с выжженными знаками любви объединились в моей голове в единое целое. Я возблагодарил Аллаха за то, что Он позволил увидеть всю эту красоту, прежде чем я ослепну. Откуда я знал, что вскоре мне предстоит ослепнуть? Понятия не имею! Я хотел рассказать о своем предчувствии Кара, который, стоя рядом со свечой в руке, смотрел на ту же страницу, что и я, но сказалось другое:
– Посмотри, как красиво нарисована рука. Это Бехзад.
Я взял Кара за руку, как когда-то, в молодости, брал за руки своих прекрасных, любимых (я всех их любил) учеников с мягкой бархатистой кожей. Рука у Кара была гладкой и крепкой, теплее, чем моя; запястье с внутренней стороны, там, где бьется жилка, – тонкое и широкое, как мне нравится. В молодости, взяв руку ученика в свою, я, прежде чем объяснить ему, как нужно держать кисть, с нежностью заглядывал в его милые, испуганные глазенки. Точно так же я сейчас взглянул в глаза Кара – и увидел в них отражение огня свечи, которую он держал в руке.
– Все мы, художники, – братья, – проговорил я. – Но теперь всему конец.
– Что вы хотите этим сказать?
«Теперь всему конец…» Такие слова мог бы произнести, желая ослепнуть, великий художник, многие годы жизни служивший какому-нибудь шаху или хану, создавший для него дивные работы в стиле старых мастеров или даже выработавший новый стиль для его мастерской, – а покровитель проиграл все битвы, и в город вместе с алчущими добычи вражескими воинами входят новые хозяева, которые разорят мастерскую, вытащат из книг миниатюры, все испортят, испоганят и будут смеяться над дорогими сердцу художника подробностями рисунков, над какими-нибудь мелочами, которые он любил, как собственных детей, ибо сам их придумал и верил в них. Но Кара мои слова нужно было объяснить иначе.
– На этом рисунке изображен великий поэт Абдаллах Хатифи, – сказал я. – Слава его была столь велика, что, когда шах Исмаил вошел в Герат и все спешили ему угодить, чтобы заслужить его милость, Хатифи не пошевелил и пальцем. Шах сам пришел к нему, проделав неблизкий путь, – поэт жил за городом. О том, что перед нами Хатифи, мы узнали не по лицу, а по надписи под рисунком, не так ли?
«Да», – признал Кара взглядом.
– Что до лица поэта, – продолжал я, – то оно, как видишь, похоже на любое другое. Если бы покойный Абдаллах Хатифи предстал сейчас перед нами, мы не узнали бы его в лицо по рисунку. В лицо – нет, но вообще – узнали бы: во всем рисунке, в позе Хатифи, в подборе цветов, в орнаменте рамки и в том, как мастер Бехзад нарисовал эту замечательную руку, есть что-то такое, от чего сразу становится понятно: перед нами – изображение поэта. Ибо в нашем рисунке смысл важнее, чем форма. Теперь же, когда наши художники начали подражать итальянцам и другим европейцам, как в рисунках для книги, заказанной султаном покойному Эниште, миру смысла приходит конец и на смену ему идет мир формы. Европейская манера…
– Эниште уже нет в живых, он убит, – грубо прервал меня Кара.
Я ласково и с уважением сжал его руку, словно руку ученика, который, может быть, в будущем создаст дивные произведения. Некоторое время мы, не говоря ни слова, почтительно смотрели на чудо, созданное Бехзадом. Затем Кара высвободил руку.
– Мы не успели толком разглядеть гнедых коней на предыдущей странице – вы слишком быстро ее перевернули, – заметил он.
– Там ничего нет, – ответил я и перелистнул страницу назад, чтобы он сам увидел: в ноздрях коней не было ничего необычного.
– Когда же мы отыщем лошадей со странным носом? – спросил Кара с совершенно детским выражением.
Однако на дальнейшие поиски сил у него уже не хватило: под утро, когда мы с карликом наконец-то обнаружили легендарную «Шахнаме» шаха Тахмаспа, прятавшуюся в железном сундуке под отрезами шелка и зеленого бархата, Кара уже давно спал на красном ковре из Ушака, положив свою красивую голову на бархатную подушку, расшитую жемчугом. Я же, едва узрев эту знаменитую книгу (во второй раз в своей жизни), сразу понял, что день для меня только начинается.
Книга, которую я видел издалека двадцать пять лет назад, была такой большой и тяжелой, что мы с Джезми-агой вдвоем еле оттащили ее к моему месту. Прикоснувшись к переплету, я понял, что под кожей скрывается дерево. Когда двадцать пять лет назад умер Сулейман Законодатель, шах Тахмасп возликовал, что ему никогда больше не придется иметь дела с этим султаном, трижды бравшим Тебриз, и на радостях отправил его преемнику, Селиму II, целый караван с дарами, среди которых были дивные Кораны и эта книга, самая прекрасная в его сокровищнице. Сначала она вместе с персидским послом и его свитой из трехсот человек отправилась в Эдирне[115], в окрестностях которого новый султан проводил зиму, охотясь, а затем караван с дарами прибыл в Стамбул. Вот тогда-то, прежде чем «Шахнаме» заперли в сокровищнице, главный художник Кара Меми и мы, трое мастеров, пошли во дворец, чтобы взглянуть на нее, – точнее, побежали, словно любопытные стамбульцы, спешащие увидеть привезенного из Индии слона или доставленного из Африки жирафа. В тот день я узнал от мастера Кара Меми, что, хотя великий Бехзад и перебрался в старости из Герата в Тебриз, его рука не касалась этой книги, ибо, когда над ней начинали работать, он уже был слеп.
В те годы для нас, османских художников, самые обычные книги с десятком миниатюр служили предметом восхищения, так что увидеть эту книгу, в которой двести пятьдесят огромных рисунков, для нас было все равно что бродить по роскошному дворцу, когда все его обитатели спят. В благоговейном молчании смотрели мы на невообразимо прекрасные страницы, словно путники, на краткий миг узревшие впереди видение райского сада.
После этого книгу заперли в сокровищнице, и двадцать пять лет ее никто не видел, но разговоры о ней среди художников не прекращались.
И вот теперь, через двадцать пять лет, я снова в молчании открыл толстую обложку легендарной «Шахнаме», словно огромную дверь дворца, – но, переворачивая приятно шуршащие страницы, ощущал не столько восторг, сколько грусть. Полностью сосредоточиться на рисунках мне мешали три обстоятельства.
Во-первых, мне вспомнились толки о том, что каждый стамбульский художник что-нибудь да позаимствовал из этой книги.
Во-вторых, глядя на дивные миниатюры (с какой решительностью и изяществом Тахмурес[116] опускал свою булаву на головы шайтанам и дэвам, которые потом, в мирную пору, обучат его алфавиту, а также греческому и многим другим языкам!), я все время искал, не попадется ли где-нибудь рука, нарисованная Бехзадом.
В-третьих, меня отвлекали мысли о лошадиных ноздрях и присутствие Кара с карликом.
Сама возможность благодаря несказанной милости Аллаха вдоволь насмотреться на эту чудесную книгу до того, как на мои глаза опустится бархатный занавес тьмы, была великим счастьем, но вот оттого, что я смотрел на нее не столько сердцем, сколько разумом, становилось грустно. К тому времени как в сокровищницу, которая все больше напоминала холодное кладбище, проникли первые утренние лучи, я успел увидеть все двести пятьдесят девять (а не двести пятьдесят) миниатюр великой книги. Смотрел я глазами разума и расскажу об увиденном по порядку, как любят делать приверженцы разума – арабские ученые.
Первое – я увидел великое множество лошадей, и среди них: разноцветных лошадей, встреченных Рустамом, когда тот преследовал конокрадов в Туране; великолепных коней, на которых войско Феридуна вплавь преодолело Тигр, когда арабский султан отказался предоставить суда; печальных чалых лошадей, издалека наблюдающих, как Тур, уязвленный тем, что отец оставил в наследство младшему сыну Ираджу самую прекрасную страну, Иран, а ему, Туру, и другому его брату дал далекую страну греков и еще более далекий Китай, предательски отрубает Ираджу голову; коней, на которых скакало воинство легендарного Искандера, в чьих рядах состояли хазары, египтяне и берберы; коня, по справедливой воле Аллаха неожиданно убившего шаха Яздигирда на берегу зеленого озера, волшебная вода которого избавила шаха от непрерывного кровотечения из носа, коим он был наказан за то, что восстал против предначертанной ему Всевышним судьбы. Ни у этих, ни у сотен других великолепных лошадей, нарисованных одними и теми же несколькими художниками, нос нисколько не походил на тот, что нарисовал подлый убийца. Однако у меня было еще больше суток, чтобы просмотреть другие тома, хранящиеся в сокровищнице.