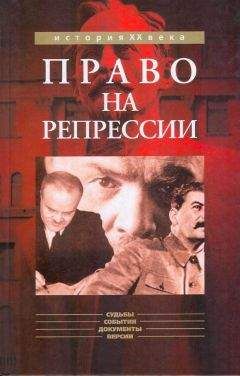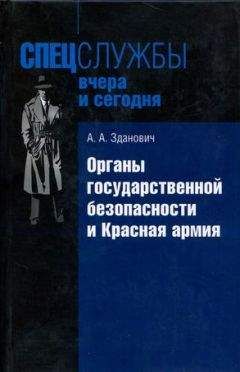Георгий Молотков - Расследованием установлено…
21 января 1982 года.
— Что вы можете пояснить по поводу предметов и документов, изъятых 8 декабря 1981 года при производстве обыска по месту вашего жительства?
— Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, не желаю объяснять мотивы своего отказа.
5 февраля 1982 года.
— Получали ли вы от… (следует конкретная фамилия) рукописные материалы, затрагивающие различные вопросы экономики и политики?
— Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, не хочу объяснять мотивы отказа. Подписывать протокол не буду.
10 февраля 1982 года.
— Подписывали ли вы какие-либо письма-протесты, заявления в защиту лиц, привлеченных к уголовной ответственности?
— Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.
— Оказывали ли вы материальную помощь людям, привлеченным к уголовной ответственности, и членам их семей?
— Я отказываюсь отвечать на данный вопрос.
— Свидетели заявляют, что вы являетесь распорядителем так называемого общественного фонда помощи политическим заключенным и их семьям в Ленинграде. Что вы на это скажете?
— Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.
3 марта 1982 года.
— По каким причинам вы отказываетесь давать показания?
— Мой отказ от дачи показаний обусловлен морально-этическими причинами.
Нет, не морально-этические причины движут сейчас им, а совсем другое — ненависть, враждебность, неверие в объективность следствия, в непредвзятость следователя.
И еще одно: верование в собственную жертвенную правоту.
Вот какие чувства стискивают сейчас ум того, кто обвиняется в преступлении против государства, против своей Родины.
А что в таком случае должен испытывать следователь, глядя в напряженно-враждебные глаза сидящего напротив человека?
Не должен ли он платить ему той же монетой?
Невольно отвлекаюсь от чтения и задумываюсь: как же так вышло, что вот сижу сейчас и размышляю над судьбой человека, которого живьем в глаза-то никогда не видел и наверняка не увижу?
Месяца два назад под вечер зазвонил внутренний телефон.
Помнится, не ожидая никаких звонков, я с любопытством снял трубку:
— Данилов слушает.
В ответ — громкий, усиленный чуткой мембраной голос:
— Здравствуй! Не очень занят? Есть необходимость поговорить. Не откладывая.
Гм! Начальник следственного отдела. Интересно, зачем я ему в конце рабочего дня?
— Добрый вечер, Василий Николаевич. Хорошо, сейчас буду.
Встретившись тогда с Василием Николаевичем, я получил необычное для себя поручение. Мне было предложено написать материал для документального сборника о работе ленинградских чекистов, готовящегося с помощью журналистов, литераторов города к семидесятилетию органов госбезопасности. Тема материала — участие органов КГБ в воспитательной функции нашего государства, деятельность, которую они проводят для предотвращения особо опасных государственных преступлений, устранения их вредных последствий для государства и общества. А в следственном отделе разговор состоялся потому, что все материалы сборника, по замыслу составителей, должны основываться главным образом на фактах, установленных в последние годы в ходе следствия по уголовным делам.
Неторопливо расхаживая передо мной по своему кабинету, Василий Николаевич — как всегда, прямой, строгий — говорил внушительно:
— Ты вникни хорошенько: предотвращение особо опасных государственных преступлений — главное в работе чекистов. И надо, чтобы самый широкий круг людей знал, что для нас важно не только изобличить и наказать преступника, а еще на ранней стадии сделать так, чтобы он не совершил Преступления. Чтобы не было вреда, ущерба государству. И чтобы человек был сохранен для семьи, для общества. Даже на тех, кто уже преступил грань закона, мы стараемся воздействовать мерами воспитательного характера. Разумеется, не подменяя при этом закон, не вступая в противоречие с законодательством.
В конце он сказал еще о том, что сориентироваться в сумме разрозненных материалов, конечно же, легче сотруднику управления, чем человеку со стороны. К тому же прямой и откровенный разговор с читателем есть не что иное, как гласность.
И я согласился.
В органах государственной безопасности я давно не новичок и считаюсь вроде состоявшимся сотрудником. Однако не перестаю диву даваться, что отважился на эту профессию.
Почему? Да потому, что она немыслима без активного, непримиримого сопротивления всему, в чем, собственно, и заключается предмет профессиональной деятельности.
Впрочем, может ли быть иначе при том, что сферой деятельности чекиста, контрразведчика, является, если сказать обобщенно, разбирательство с ненормальностями, с аномалиями — в людях, их поступках, в мотивах, двигавших ими, в явлениях, процессах, событиях. В поле зрения все время находится часть жизни, как бы помеченная знаком минус.
Но и это еще не все. Чекисты имеют дело не просто с преступниками, а преимущественно с теми из них, кто посягает на самые основы нашего государства. С идейными и моральными отщепенцами нашего общества, которые, противопоставляя свои личные устремления интересам социалистического общежития, сознательно действуют на руку классовому недругу.
Думаю, если учесть оба момента, вместе взятые, то можно понять, какой они порождают внутренний максимализм.
Максимализм в требовательности к себе и в самоотдаче на работе. В тяге (от его избытка) к мирским благам — к семье, к общению с родными, к духовному обогащению книгой, музыкой, картиной. И — от острой любви к этому всему, становящемуся при таком режиме дефицитными ценностями, — опять к нему самому, максимализму в работе.
…Уходя с работы в поздний час, задерживаюсь перед кабинетом на минуту, чтобы опечатать его и сдать на автоматическую охрану. Длинный, с расположенными по обеим сторонам дверями, коридор заполнен неярким голубоватым свечением люминесцентных ламп и охватывает все здание по периметру. Пока идешь по нему, успеваешь подумать о многом.
Вот миновал кабинет, к которому с давних пор особое отношение. С жаркого летнего дня 1971-го. Можно сказать, что с этого кабинета, как с уэллсовской двери в стене, произошло для меня вхождение в новый, совершенно тогда не известный мир. Только в уэллсовском рассказе из обыденной, прозаической действительности герой шагнул в поразивший его фантастический мир, а мне, напротив, из мира, рисовавшегося больше собственным воображением и надеждами, чем основанного на реальных представлениях, довелось сразу попасть в мир людей, соединенных кропотливейшей коллективной работой, при которой фантазия нужна только как версия, как прогноз, для того чтобы быть беспристрастно изученной, исследованной с позиций фактов, самым прозаическим образом разложенной «по полочкам» и получить наименование истины.
Хорошо помню тот первый разговор с одним из руководителей управления. Хорошо помню его глаза — внимательные и при этом подзадоривающие, доброжелательные одновременно. Такими глазами смотрят на зеленого юнца, старающегося напустить на себя этакий флер самоуверенности, смотрят, чтобы не сбить его старание выглядеть уверенным не по годам. Они словно говорили: «Давай петушись! Не взыщется за это, а работе нужны энергичные и бодрые. Бодрость духа — прежде всего! А мы присмотримся, где лучше сгодишься ты».
Он спросил, обращаясь ко мне, молодому, зачисленному в кадры сотруднику: какие у меня личные планы наряду, так сказать, теперь уже и со служебной деятельностью?
— Творчество! Хочу не только усваивать сделанное другими, но и делать сам. Я филолог. Намерен в своем образовании совершенствоваться дальше. Иначе какой был смысл в предыдущих усилиях?
Из-за широкого, с шоколадным отливом, полированного стола, на котором не было ни одной бумажки, он посмотрел на меня долгим взглядом и слегка покачал головой:
— Чекистом надо или быть, или не быть. Все, что на пользу работе, — хорошо. Прочее надо отметать. Рабочий день у нас не нормирован, а вам еще многое придется ломать в себе, потом взращивать. Кропотливо и не всегда безболезненно. Понадобится переосмыслить многое. Силы нужны для работы.
— У меня хватит сил!
— Чекист — не только профессия. Чекист — это человек в профессии, ему раздваиваться нельзя. Чекист нужен делу весь, целиком. На планы ваши времени не будет, и надо расстаться с мыслями о них.
Я подумал: сказано — так, для проформы, на всякий случай, чтобы мысли, внимание новичка сосредоточились на главном — на работе, которая ждет, на будущей профессии. Тем более что и сказано было без оговорок — обнаженно и просто.
Только потом, гораздо позже, осознал, что нет, не играл тогда со мной в подчеркнутую серьезность напутствовавший меня руководитель, а именно серьезно, со всей полнотой возложенной на него ответственности предупреждал неопытного еще человека о той доле общей ноши, которую ему теперь тоже придется нести. Доброжелательно щурясь, смотрел он на петушащегося от избытка наполеонства новичка и сквозь прищур этот видел его, наверное, уже таким, каким ему рано или поздно, но обязательно надлежит быть.