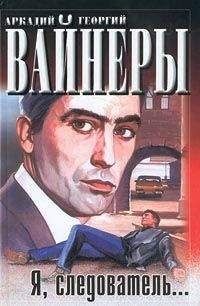Лекарство против страха - Вайнер Аркадий Александрович
— Каких же зайцев?
— А он сообразил, что, подложив остатки метапроптизола в машину Панафидина, он и нас с толку собьет, и профессора вымарает. Но сейчас с вами не об этом речь. Вы зачем дали Чебакову метапроптизол?
— Я ему не давала. Он сам взял.
— То есть как?
— Лыжин ездил в Воскрссенск на химический комбинат, и ко мне сюда пришел Борис. А незадолго до этого мы впервые получили продукт, и я тоже этим гордилась и не удержалась — похвасталась, показала ему колбу с препаратом. Он взял в руки колбу, посмотрел, расспросил меня, что это такое, а потом отсыпал в пустую пробирку. Я с ним ругалась, кричала на него, а он меня не слушал — ну не драться же мне с ним из-за этого было. Да и не могла я себе представить, что он будет с ним делать…
— А как он объяснил, зачем ему метапроптизол?
— Он мне говорил, не то шутя, не то всерьез, что если я с ним расстанусь, то он им отравится. Примет большую дозу — и уснет навсегда.
Поздняков завозился в углу, кашлянул, сказал глухо:
— Наверняка всерьез грозился. Половину в меня сыпанул, а половину бросил к профессору в машину. Такие паразиты сами не травятся — их даже мышьяком не высмолишь…
— Скажите, вам звонили сюда, в лабораторию, с просьбой передать что-нибудь Чебакову? — спросил я.
— Да, несколько раз звонил какой-то мужчина.
— И что передавали?
— Да ничего. Просили сказать Борису, что Николай приехал.
— А что по этому поведу говорил Чебаков?
— Да чего-то он объяснял, уж и не помню. Я этому значения не придавала.
Я подумал, и спросил равнодушно, будто мне это безразлично и особого значения своему вопросу я не придаю:
— А давно звонили? Последний раз?
— Вчера.
— И вы сообщили Чебакову?
— Да, вчера же. Мы с ним виделись, и я сказала.
— Тогда давайте вместе постараемся — припомним, когда в другие разы звонилии…
Александрова старалась добросовестно. У нее даже испуг прошел, глаза горели сухим лихорадочным блеском, она была вся сконцентрирована на мельчайших событиях, которые могли ей помочь точно восстановить дату, когда звонили в другие разы друзья ее разлюбезного дружка Бориса, и со мной она не хитрила и не запиралась — она истово старалась изобличить своего любимого красавца. Она вспоминала, как была одета, что купила в этот день в ГУМе, в каком были кино с Борисом и что смотрели, что в этот день в буфете были бутерброды с семгой, что поссорилась утром с матерью, что подруга взяла ее складной японский зонтик, — и самое удивительное, что она больше не была красивой. Это было какое-то чудо — казалось, у десяти красивых женщин собрали прекрасные глаза, лоб, рот, уши, нос, подбородок, сложили вместе, и закричало ужасной дисгармонией лицо, слепленное из чужих красот, нахватанных впопыхах, как попало — все это было чужое. И она мне была противна, потому что не было в ее откровенности горького прозрения, стремления обрушить кару на лжеца и преступника, не было разъедающего стыда за совершенное и искреннего раскаяния, а гнало ее память по сучкам и трещинам, малейшим следам наших будней палящее стремление поскорее и понадежнее отвести от себя нависшую серьезную угрозу.
Долго мы вспоминали, и если даже допустить, что где-то она сделала промашку и на денек ошиблась, то все равно выходило, что всеразгоны были совершены через два-три дня после того, как звонил притихший, съежившийся сейчас телефонный аппарат на захламленном рабочем столе и чей-то незнакомый мужской голос сообщал, что приехал Николай. И привез людям горе.
Часы показывали половину восьмого. Я встал и сказал Позднякову:
— Андрей Филиппович, вы сейчас поедете на Петровку с Александровой. Я позвоню дежурному и скажу, чтобы все ее показания были оформлены протоколом. Сам я поеду за этим тараканом — Чебаковым и привезу его тоже в управление. Устроим бедным влюбленным очную ставку.
— А может быть, я с вами? А-а?
Поздняков смотрел на меня как ребенок, почти с мольбой, и я понимал, как ему хочется сейчас поехать со мной и вытащить за ухо этого мерзавца, которому Поздняков всего и вреда-то причинил в жизни, что стыдил его за немужское занятие — голым позировать и надоедал своими рацеями о вреде разгильдяйства и недисциплинированности, и, не жалея натруженных ног, ходил и ходил к нему, надеясь предостеречь от худшего, и делом хотел заставить заниматься, а тот за это решил убить его — коли ядом не получится, то прибить позором, судом товарищей, общественным презрением, на которое Чебакову наплевать было, а капитана до самой земли пригнуло.
И все-таки взять его я не мог: при всей дисциплинирован ности Поздняков, увидев своего врага смертного, мог такой номер выкинуть, что потом сто лет не расплевались бы. И я твердо сказал:
— Нет, Андрей Филиппович. Никак не получается — времени нет у нас. Вы на Петровке не задерживайтесь, а поезжайте сразу к Липкиным — по нашим расчетам, следующий разгон у них должны прокатить. Если преступник звонил вчера, значит, они там появятся завтра-послезавтра. Вы поговорите с людьми, подготовьте их, присмотрите условия и возможности для засады. Оттуда позвоните мне, и договоримся, что делать. Возможно, сегодня с ночи надо будет высылать к ним наряд.
— Слушаюсь, — сказал Поздняков, и в его непроницаемой сержантской невозмутимости мне заметны были досада, боль и горечь.
Он повернулся к Александровой и сказал негромко, но сухо и очень твердо:
— Надевайте пальто, гражданочка. Поедем на Петровку…
… За исцеление свое каноник собора святого Мартина благородный Корнелиус фон Лихтенфельс обязался уплатить мне сто гульденов. Вглядываясь в его мышиную злую мордочку с круглыми маленькими впадинами глазниц, я с трудом узнал родственника Зигмонта Хюттера, который примчался на раздел имущества в замок великого алхимика. Время будто терло его эти годы между ладонями — такой он весь был старый, мятый, корченый, изжеванный. Только злобы в нем нисколько не убавилось.
Уже приговоренный врачами к смерти, почти отпетый, дважды соборовавшийся, он в ужасе призвал меня и теперь, оживившийся после терриака, порозовевший от тройной дозы лавандовых пилюль, почувствовавший прилив сил от смеси хлебного спирта, сока алоэ и гречишного меда, полулежал на высоких подушках и говорил сам с собой:
— Бесчестные жулики, противные хапуги, безбожники, забывшие страдания сына господня, вы уже разделили, наверное, мой приход, рассчитали, кому что достанется! А вот и нет! Рано порадовались, мерзавцы! Явлюсь с божьей помощью в храм — всех вас призову к ответу! И нечестивых мздоимцев покараю — укушу, как осел!
Я засмеялся и сказал:
— Наверное, как собака, ваше преосвященство?
Фон Лихтенфельс махнул на меня рукой:
— Как осел! Собака кусая, не ломает кость! — Он продолжал сердито бормотать себе под нос: — Подождите, нечестивцы, за все ваши грехи мерзкие придет час кары — вспыхнет огонь ярче солнца, и исчезнете все в адском серном пламени…
Вошел в покои слуга и сказал, что меня ждет у входа Опоринус. Я спустился к нему и по лицу его понял, что вести он принес ужасные.
— Учитель! Письмо из Женевы: кальвинисты арестовали Азриеля и приговорили его к сожжению…
Не помню, как мчался я на лошади по горной дороге до Женевы, как приехал дождливым, серым утром в этот тихий прекрасный городок, увидел толпы людей, бегущих по узким улочкам в сторону рыночной площади, и понял, что уже ничего не изменить — я опоздал.
Дробный голос барабанов рокочет угрожающе и глухо, вот завизжала криком предстоящей муки флейта — осужденного вывели из каземата. Шарахнулись люди вдоль домов и замерли в испуге и неподвижности, тяжелый топот кованых сапог плывет в утренней тишине. И снова толпа приходит в движение — все занимают места поближе, чтобы лучше видеть. Где-то остался мой конь, и сил сопротивляться нет — толпа рекой поволокла меня к эшафоту, и бегут люди быстрее конвоя, и стук барабанных палочек отдаляется, он похож на громовой рокот за горизонтом или ток крови в человеческом сердце.