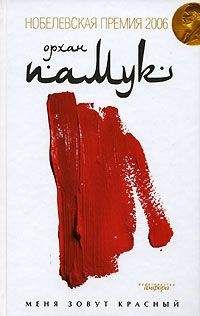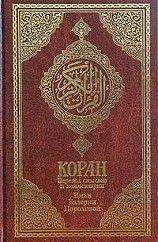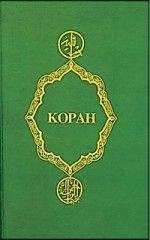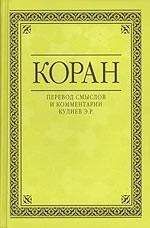Орхан Памук - Имя мне – Красный
– Что, страшно? – спросил старый карлик, верно угадав владевшее мной чувство. – Всем, кто приходит сюда впервые, бывает страшно. По ночам души этих предметов перешептываются между собой.
Но пугали не столько предметы, сколько тишина, окутывающая эту невероятную груду сокровищ. Мы застыли на месте, слушая, как снаружи запечатывают дверь, и восхищенно озираясь по сторонам.
Чего здесь только не было: мечи, слоновьи бивни, кафтаны, серебряные подсвечники, атласные флаги, перламутровые шкатулки, железные сундуки, китайские вазы, пояса, музыкальные инструменты, доспехи, шелковые подушки, глобусы, сапоги, меха, рога носорога, расписанные страусиные яйца, ружья, стрелы, булавы, шкафы, шкафы, шкафы… Все вокруг было увешано коврами и бесценными тканями, они свисали со стен, с деревянной галереи, со шкафов и словно катились на меня тяжелыми волнами. И все эти ткани, сундуки, султанские одежды, мечи, огромные розовые свечи, тюрбаны, расшитые жемчугом подушки, украшенные золотом седла, палаши с эфесами в алмазах, булавы с рукоятками в рубинах, кавуки, украшения для тюрбанов, часы причудливой формы, фигурки слонов и лошадей из слоновой кости, кальяны с алмазными мундштуками, ларцы из перламутра, конские султаны, огромные четки, шлемы, усыпанные рубинами и бирюзой, кувшины и кинжалы заливал странный свет, подобного которому мне нигде не случалось видеть. Он сочился из окон под потолком; так бывает освещена мечеть летним днем, когда солнечные лучи проникают в световой карман на вершине купола, – точно так же высвечивались висящие в воздухе пылинки; однако это был не прямой солнечный свет – я знал, что небо затянуто облаками. Из-за этого странного освещения казалось, что воздух в сокровищнице можно потрогать руками, а все вещи словно бы сделаны из одного и того же вещества. Мы еще немного постояли все вместе, боязливо прислушиваясь к тишине, и я заметил, что не только свет рождает впечатление, будто все вещи состоят из одного и того же таинственного материала, – причиной тому и пыль, которая покрывала все вокруг и немного скрадывала господствующий в комнате красный цвет. И это скопище вещей казалось тем более пугающим, что трудно было различить не то что с первого, а со второго, с третьего взгляда, что есть что. Предмет, который я сначала посчитал сундуком, затем показался мне подставкой для книг, но в конце концов я решил, что это какой-то странный европейский инструмент; перламутровый сундук, выглядывающий из-под груды кафтанов, оказался необычной формы ларчиком, подарком московского царя.
Джезми-ага привычным движением поставил мангал в нишу, служившую очагом.
– Где лежат книги? – шепотом спросил мастер Осман.
– Какие именно? – осведомился карлик. – Из Аравии? Куфические Кораны? Книги, привезенные блаженной памяти султаном Селимом Грозным из Тебриза? Те, что были изъяты у казненных пашей? Или тома, преподнесенные венецианским послом в дар деду нынешнего султана? А может, христианские книги, сохранившиеся со времен султана Мехмеда Завоевателя?
– Те, которые тридцать лет назад прислал в дар блаженной памяти султану Селиму шах Тахмасп, – ответил мастер Осман.
Карлик подвел нас к большому деревянному шкафу и открыл дверцы. Когда мастер Осман увидел перед собой выстроившиеся на полках тома, в его глазах зажглось нетерпение. Схватив один из них, он прочитал надпись на обложке и стал перелистывать страницы. Я тоже смотрел вместе с ним на тщательно прорисованные изображения ханов со слегка раскосыми глазами.
– Хан Чингис, хан Чагатай, хан Тулуй, хан Кубилай, владыка Китая[105], – прочитал мастер Осман, закрыл книгу и достал следующую.
На глаза нам сразу попался невообразимо прекрасный рисунок, изображающий, как Фархад, которому любовь придала сил, с великим трудом несет на спине Ширин вместе с лошадью. Чтобы подчеркнуть страсть и печаль влюбленных, скалы на горе, облака и хвоя трех благородных кипарисов, свидетелей любви Фархада, были нарисованы подрагивающей рукой с такой грустью, что мы с мастером Османом сразу почувствовали горечь слез на опавшей листве. Этот трогательный рисунок был сделан не затем, чтобы, по примеру многих великих мастеров, рисовавших эту сцену, показать мощь Фархада, а чтобы смотрящий на него ощутил, как печаль влюбленных мгновенно передается всему миру.
– Это подражание Бехзаду, сделанное в Тебризе восемьдесят лет назад, – сказал мастер Осман, поставил том на место и вытащил следующий.
На открытой им странице оказалась иллюстрация к «Калиле и Димне»[106], к притче о вынужденной дружбе между мышью и кошкой. Бежавшая по полю мышь угодила меж двух огней: на земле – куница, в небе – коршун, и нашла защиту у невезучей кошки, попавшей в охотничий капкан. Кошка стала ласково вылизывать мышь, будто та была ее закадычной подругой; увидев это, куница и коршун испугались и убрались восвояси. После этого мышка осторожно освободила кошку из капкана. Я еще не успел понять, какие чувства хотел выразить художник этим рисунком, как мастер Осман вернул том на полку, достал следующий и снова открыл его на первой попавшейся странице.
На этом рисунке была изображена таинственная женщина; одна ее рука вопросительно изогнута, другая лежит на колене, прикрытом зеленым ферадже; рядом, наполовину поворотившись к женщине, сидел мужчина и внимательно слушал ее. Я жадно смотрел на рисунок, завидуя любовной и дружеской близости этих людей.
Мастер Осман открыл новую книгу. В пыльно-желтой степи величественно выстроились друг напротив друга конные войска двух извечных врагов: Ирана и Турана. Воины, восседающие на великолепных, по шею закованных в броню скакунах, облачены в доспехи, шлемы и наколенники; при них и луки, и полные стрел колчаны, а в руках они держат копья с разноцветными наконечниками. Не вступая в бой, всадники терпеливо ждут – наблюдают за схваткой двух своих предводителей. Я подумал: когда бы ни был сделан рисунок, сегодня или сто лет назад, что бы ни было на нем изображено, военная сцена или любовная, истинный художник всегда показывает нам свою борьбу с собой и свою любовь к искусству, а стало быть, рисует он собственное терпение. Только я хотел сказать об этом вслух, как мастер Осман захлопнул тяжелый том и проворчал:
– Нет, это тоже не то.
В одной муракка мы увидели изображение необъятного простора: высокие горы уходили вдаль, теряясь в шапках кучерявых облаков. Я подумал: рисовать – это значит, глядя на мир, изобразить его так, будто это не наш мир, а какой-то другой. Мастер Осман рассказал, что этот китайский рисунок, прежде чем оказаться в Стамбуле, попал сначала в Бухару, из Бухары – в Герат, из Герата – в Тебриз, а уж оттуда – в сокровищницу нашего султана; причем по пути он переходил из книги в книгу: старый том расшивали и вставляли страницу в новый.
Мы увидели сцены войны и смерти, одна другой страшнее, одна другой искуснее исполненные: Рустам и шах Мазендарана, Рустам нападает на войско Афрасиаба, Рустам в броне – неузнанный таинственный воин… В другой муракка нам встретилась сцена ожесточенной битвы двух не опознанных нами воинств: мы увидели отсеченные руки и головы, обагренные кровью кинжалы, несчастных воинов с отблеском смерти в глазах, рубящих друг друга, словно лук. Мастер Осман в который уже раз смотрел на то, как Хосров наблюдает за Ширин, купающейся в озере при лунном свете, как влюбленные Лейла и Меджнун встречаются после долгой разлуки и, увидев друг друга, оба лишаются чувств, как сбежавшие от всего мира Саламан и Абсаль пребывают на счастливом острове, изобилующем цветами и птицами, – и, будучи подлинно великим знатоком своего дела, даже в самых плохих рисунках подмечал странности, прячущиеся в каком-нибудь уголке; некоторые из них были вызваны неумелостью художника, другие же – тем, что цвета сами собой вступали в беседу друг с другом. Старый мастер не мог удержаться, чтобы не обратить мое внимание на эти странности. Какой, например, несчастный и злонамеренный глупец усадил сову, вестницу беды, на ветку дерева, под которым недиме рассказывают истории Хосрову и Ширин? Вот египтянки, которые чистили апельсины и порезали пальцы, увидев прекрасного Юсуфа, – кто поместил среди них красивого юношу в женских одеждах? Догадывался ли художник, изобразивший, как ослепляют стрелой Исфендияра, что и ему самому суждено ослепнуть?
Мы увидели ангелов, которые окружали возносящегося на небо Пророка; младенца Рустама, безмятежно спящего в перламутровой колыбели под присмотром матери и нянек; смуглого, длиннобородого, шестирукого старика, олицетворяющего звезду Зухаль[107]; увидели, как Дара принимает мучительную смерть на руках у Искандера, как Бахрам Гур уединяется в красной комнате с русской царевной, как Сиявуш скачет сквозь огонь на черном коне, ноздри которого безукоризненны – никакого тайного знака; как хоронят Хосрова, убитого собственным сыном. Быстро просматривая том за томом, мастер Осман порой узнавал руку того или иного художника, а иногда показывал мне и подпись, смущенно прячущуюся между цветами, в укромном уголке среди развалин или в темном колодце, где притаился джинн; взглянув на нее и сопровождающую рисунок надпись, он рассказывал мне, у кого и что этот художник позаимствовал. В некоторых книгах было всего по нескольку рисунков, и мастеру Осману приходилось долго листать страницы, прежде чем он добирался до иллюстраций. Порой наступало долгое молчание и был слышен только тихий шелест страниц. Иногда мастер Осман восклицал: «Ну и ну!» – а я молчал, не понимая, что вызвало его удивление. Обращая мое внимание на то, как размещены на каком-нибудь очередном рисунке деревья и всадники, мастер напоминал, что точно такая же композиция уже встречалась нам в другой книге, на иллюстрации к совершенно иной истории. Он сравнивал рисунок к «Хамсе» Низами, сделанный при сыне Тимура, то есть почти двести лет назад, с изображением из другого тома, изготовленного, по его словам, в Тебризе лет семьдесят – восемьдесят назад, и спрашивал меня, как объяснить, что у художников, никогда не видевших работ друг друга, вышло одно и то же, – и отвечал на свой вопрос сам: