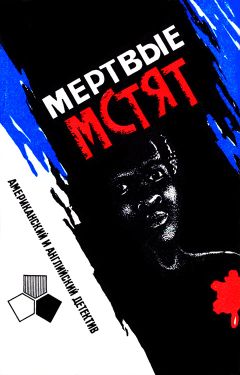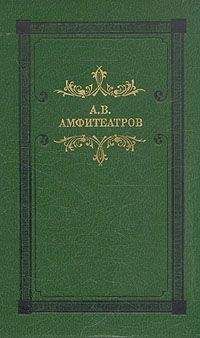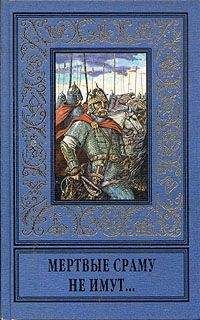Джонатан Вуд - Мертвые мстят
Но мне везло. В удаче я нуждался для того, чтобы побыть с Папой до его последнего вздоха. Что будет потом, мне наплевать.
Когда наступила кончина, к постели больного приблизились Род, Эдвина, мать и доктор, который тоже явился, словно опасаясь за свой гонорар. Бледная рука отца чуть пошевелилась, и к ней припала мать, опустившись на колени у кровати. Маленькая, худенькая, с высохшим строгим лицом мать не плакала, наоборот, она казалась невероятно серьезной.
— Сожми мою руку… Вот так… Сожми, чтобы мне не было страшно.
Умирающий чуть улыбнулся и закрыл глаза. Мы ждали его кончины стоя. Дыхание Папы становилось все реже. Словно замедлялось движение маятника на останавливающихся гиревых часах. Никто не произнес ни слова. Я обвел присутствующих глазами, таких жалких и напуганных перед лицом смерти, и почувствовал себя волком среди овец…
Мать громко зарыдала.
День выдался холодным, с редким колючим снегом. Я остановил джип у церкви, где шла похоронная месса, вошел вовнутрь по скользким оледеневшим ступеням. Подняв воротник плаща и полузакрыв им лицо, я в сотый раз повторял, что было безумием с моей стороны присутствовать на похоронах. Полиция, вероятно, уже знала, что в машине сгорел не мой труп. Да и кто-то из чиновников в тюрьме наверняка вспомнил, что я накануне побега получил письмо от матери, в котором извещалось о смертельной болезни отца. После его кончины прошло два дня, и мне следовало бы находиться в Мексике. Но я не мог заставить себя уехать, пока его не похоронят. Или, может быть, я сам себе изобрел этот предлог, чтобы по-прежнему бросать вызов властям, продолжать эту глупую игру, в которой в проигрыше всегда остаются такие парни, как я?
Издали Папа лежал в гробу как живой. Вблизи были отчетливо видны румяна на лице, и шея казалась слишком тонкой для воротника рубашки. Я прикоснулся к руке — почувствовал каменный холод и не нашел ничего в ней знакомого, кроме вида ногтей, длинных и чуть искривленных.
Встав за моей спиной, Род незаметно для других шепнул мне на ухо:
— Сегодня ты уберешься отсюда. Я не хочу видеть тебя в моем доме.
— Постыдился бы, брат! Говорить такое до того, как объявлено завещание? — возразил я ему тоже шепотом.
Пешком мы проследовали за катафалком по заснеженным улицам на кладбище. Могильщики установили тяжелый гроб на доски, положенные поперек вырытой ямы, на глинистые края которой налипли комья снега.
Я ушел, когда пастор начал читать молитву — ушел не потому, что устал от присутствия смерти, а потому, что мной овладело желание побродить по родным холмам. Кроме того, мне надо было взять кое-что из дома, прежде чем мои родственники вернутся с похорон. Ружья и патроны я нашел в гараже, куда их, очевидно, запрятал Род, панически боявшийся выстрелов. Я выбрал отличное легкое ружье двадцать второго калибра. Папа и я провели, наверное, сотни часов с этим ружьем, поэтому лак сошел с рукоятки, и она была отполирована прикосновением наших ладоней и пальцев. Ствол ружья потерял свою первоначальную голубизну от долгого пребывания на воздухе…
Я доехал на джипе до места, где начиналась ложбина между холмами и пешком углубился в лес. Воспоминания детства вновь нахлынули на меня, и это помогло забыть о холоде, подобравшемся к моим ногам сквозь подошвы легких ботинок.
Внезапно серо-коричневая молния метнулась из-под груды, мертвых сучьев — заяц стремглав запрыгал через открытую поляну в сторону кустарника. Моя пуля ударила его в спину. Он конвульсивно дергался до тех пор, пока я не прикончил его ударом каблука.
Оставив на земле мертвого зайца, я пошел дальше вдоль ложбины. Вечерние сумерки густели, превращаясь в ночь. И, все же, я успел разглядеть, как пришла в движение небольшая тень: жирный фазан, волоча длинный хвост, пробежал несколько шажков, прежде чем взлететь справа от меня. Я успел сделать прицельный выстрел и сбил его на подъеме.
Забрав добычу, я вернулся к джипу. Тонкая струйка крови стекала с клюва фазана, да и заяц был еще теплым. Чтобы найти дорогу к кладбищу, мне пришлось включить передние фары.
Могила оставалась все еще незакрытой. Снег покрывал белым саваном лежащий на дне ямы гроб. Я бросил на него зайца и фазана, потом постоял у края ямы неподвижно минуту-две. Холодный ветер обжигал мои щеки, по которым текли горячие слезы.
Прощай, Папа! Прощай наша охота на оленя по ту сторону холмов. Прощай охота на диких уток у прибрежных плесов. Прощайте запахи леса, придававшие такой прекрасный привкус виски, которое мы пили. Прощай все то, что было самой дорогой частью меня, и о существовании чего я не подозревал…
Я повернулся, чтобы направиться к джипу… и замер на месте. Я даже не слышал, как они приблизились. Их было четверо, стоявших с вежливыми и серьезными лицами, словно отдавая почести умершему. В определенном смысле, так они и поступали, ибо в их глазах я тоже был потенциальным покойником, поскольку, по их убеждению, убил того фермера, сгоревшего в машине. Внутренне напрягшись, я вспомнил про малокалиберное ружье, висевшее дулом вниз под плащом. Да, ружье было при мне. Но для четырех фараонов оно — детская игрушка. О, если бы Папа предпочитал оружие более крупного калибра. И, все равно, стрельба для меня кончилась…
Медленно, словно мои руки налились свинцом, я поднял их вверх и положил ладонями на голову.
Брюс Уолтон
ПРОТИВ ПОВЕШЕНИЯ
Вспотевший прокурор ослабил галстук и продолжил обвинительную речь. Его голос то громыхал, то врывался на визг, как у плохого актера-трагика.
— Я вновь хочу напомнить вам, уважаемые присяжные, что этот тип по имени Борк предстал перед судом по обвинению в самом злодейском убийстве и изнасиловании, которое когда-либо совершалось в нашем округе. А теперь я остановлю ваше внимание на главных пунктах обвинения…
Кожа на теле Борка зачесалась. Все происходящее в небольшом зале судебного заседания с его душной и неподвижной атмосферой — следствие июльской жары, — приобрело для подсудимого оттенок нереальности, словно он видел это в кошмарном сне.
Теперь Борк почти был уверен, что его повесят. В своей речи прокурор изобразил Борка кровожадным зверем. Старый судья в красных подтяжках возвышался над столом как гигантский кенгуру. Местный шут по имени Поп Лимойн, назначенный адвокатом, потерял к делу всякий интерес, когда Борк отвергнул его предложение признать себя во всем виновным и просить суд о снисхождении.
— Почему бы в таком случае не посадить меня в клетку к голодным львам? — заметил Борк. — И, к тому же, я никого не убивал.
— Неужели? — иронически спросил Поп. — Обвинение владеет прямыми свидетельствами и косвенными доказательствами. Изнасилованная и убитая девица была из местных, и все ее любили. Ты — нездешний. И, кроме того, кого-то они все равно должны повесить. Если хочешь спасти свою шкуру, признай себя виновным и проси о снисхождении на коленях и в слезах.
Борк, подумав про себя, что признанием он еще больше раздразнит голодных псов, лишь усмехнулся в ответ на совет «адвоката».
— Что бы там ни было, — продолжал прокурор, — но я предпочитаю предоставить право решать судьбу подсудимого досточтимым присяжным Блю Риббона, чей ум и жизненный опыт позволит вынести вердикт без лишних эмоций, на основании беспристрастной оценки фактов.
Борк вновь усмехнулся, глядя на тупые как у баранов лица, уставившееся на него со скамьи, отведенной для членов жюри. Он даже не попытался скрыть своего презрения к этим необразованным и недалеким людям, хотя подсудимый знал, что его высокомерный вид, возможно, настроит присяжных против него. И, тем не менее, Борк решил не унижаться и не просить для себя помилования. Он не мог заставить себя снизойти до их уровня, хотя понимал, что может быть приговорен к смертной казни через повешение.
«Присяжные Блю Риббона? — язвительно подумал про себя Борк. — На выставке дегенератов им бы дали главный приз. Вероятно, они такие и есть на самом деле».
— Подсудимый утверждает в свою защиту, что никто непосредственно не видел, как он совершил это чудовищное преступление. И что же особенного в этом утверждении, люди?
Разве можно ожидать от убийц, чтобы они совершали свои злодеяния на глазах у всех или перед объективом телекамеры? — задался вопросом прокурор.
Слабый смешок раздался из кала и тут же растаял в гнетущей духоте.
Борк повернул голову в сторону шерифа Ленни, чье отношение к подсудимому отличалось уважением и симпатией. Борк уже заметил, что шериф неоднократно неодобрительно хмурил брови, наблюдая за ходом судебного разбирательства. Блюститель порядка был человеком преклонного возраста, высоким и худым, но на вид крепким для своих лет. И сейчас, встретившись глазами с Борком, он улыбнулся ему с печальным сочувствием, словно давая понять, что не в состоянии что-либо изменить в происходящем судилище. Борк почувствовал в этой улыбке желание морально поддержать человека, окруженного враждебностью жаждущей расправы банды.