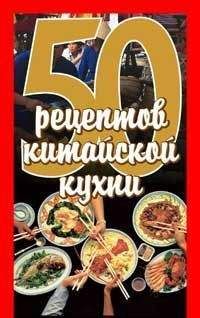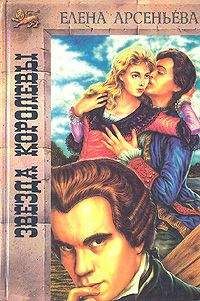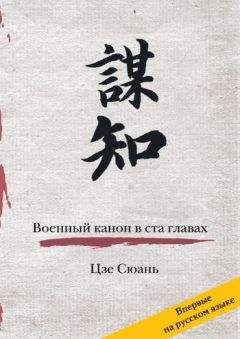Елена Арсеньева - Коллекция китайской императрицы. Письмо французской королевы
Итак, подойдет Алёна к предполагаемому графу и покажет билетик… И что?
Да ничего. Он пошлет ее на беашвэ. В смысле – на три буквы.
Что касаемо «беашвэ»… Аббревиатура заслуживает небольшого лирического отступления с пояснением.
На их с Мариной (и с Морисом, посвященным в данную тайну) языке сказать «пошлют на беашвэ» значило то же, что послать на три буквы, в неприличный пеший путь. Вообще-то, BHV – огромный, очень хороший хозяйственный магазин в Париже на rue Rivoli, неподалеку от Hôtel de Ville, в котором находится муниципалитет Парижа. В этот магазин Морис одно время – когда в доме делали ремонт – весьма часто ходил. И как ни спросишь, где Морис, Марина непременно отвечала: «Пошел в BHV». А Лизочка никак не могла запомнить аббревиатуру и говорила: «Папа пошел в магазин, где три буквы». Постепенно выражение стало простым и сакраментальным – пошел на три буквы или пошел на беашвэ.
Ну и пошлет ее гид-граф, подумала Алёна. И, собственно, что? Зато она будет совершенно уверена, что выполнила свой долг перед Францией вообще и перед таким бесценным достоянием любимой страны, как шато Талле, в частности. Все-таки семейство Колиньи… и «Анжелика и король»… и вообще красота несусветная… Жаль, если замку будет нанесен хоть малейший ущерб.
Нет, надо все-таки мало-мальски поднять тревогу. Разумеется, в полицию или к охранникам она не пойдет, а вот поговорить с приятным и элегантным гидом, который к тому же не перестает поглядывать на нее с таким интересом, можно.
Решено!
Но, конечно, только после окончания осмотра шато. А то вдруг этот мсье примет Алёнины слова совершенно всерьез, мобилизует охрану, вызовет полицию и окончательно испортит людям и без того сокращенную экскурсию.
С другой стороны, затягивать с разговором нельзя. Если дело и правда нечисто, надо повнимательней присмотреться к туристам. Кто-то же из них положил бумажку, кто-то задумал аферу с Девой Фей, какой бы смысл ни вкладывать в это выражение…
Пока гид занят, присматриваться придется Алёне. Ну что ж, чай, не впервой!
Начало 20-х годов XX века, Россия
Алексей Максимович стоял за дверью и слушал, как Гумилев читает свои новые стихи:
И совсем не в мире мы, а где-то
На задворках мира средь теней,
Сонно перелистывает лето
Синие страницы ясных дней.
Маятник старательный и грубый,
Времени непризнанный жених,
Заговорщицам секундам рубит
Головы хорошенькие их.
Так пыльна здесь каждая дорога,
Каждый куст так хочет быть сухим,
Что не приведет единорога
Под уздцы к нам белый серафим…
Стихи назывались «Канцона», и слово это раздражало Горького так же, как раздражало все, что исходило от Гумилева. Читал тот медленно, торжественно, явно упиваясь своим голосом, и Алексей Максимович чувствовал, что поэт гордится каждой строкой, созданной им, каждым исторгнутым звуком, что он испытывает огромное уважение к себе, создателю таких восхитительных ценностей.
Это было понятно Горькому потому, что и он сам, читая свои произведения на публике, испытывал совершенно такие же чувства. Более того! Если Гумилев читал свои стихи несколько отстраненно, не без высокомерия жреца, который презирает непосвященных, то Горький ужасно переживал о том впечатлении, которое произведет. Причем и волновался, и стыдился своего волнения. Оно как бы унижало его, как бы ставило под сомнение мастерство, силу его творчества…
Однажды, давно, когда он был уже признанным писателем и даже разжалованным почетным академиком (покойный государь император, не дав насладиться званием и новыми правами, исключил его, поскольку Горький находился под надзором полиции за антиправительственную деятельность, в связи с чем Чехов и Короленко отказались от членства в академии, ну а Горькому сие событие только надбавило популярности), он читал труппе театра Станиславского свою новую пьесу «На дне» – и аж расплакался, когда Анна умирала. Помнится, просморкавшись трубно, выговорил умиленно: «Ах, хорошо написал!» И все умилились вместе с ним: и Константин Сергеевич, и Коля Телешов, друг-приятель, и актеры, и, конечно, она, Машенька, Марья Федоровна Андреева, тогдашняя прима, будущая любовь Горького… такая горькая любовь… А какая любовь была у него не горькая? Разве с той, для кого звенит фанфарами и кимвалами голос Гумилева, не горькая?
Зачем, ну зачем Варваре этот пустозвон? И вообще, что за стихи?
И в твоей лишь сокровенной грусти,
Милая, есть огненный дурман,
Что в проклятом этом захолустьи
Точно ветер из далеких стран.
Там, где всё сверканье, всё движенье,
Пенье всё, – мы там с тобой живем.
Здесь же только наше отраженье
Полонил гниющий водоем.
Вот именно – гниющий водоем, а не поэзия!
Что? Гниющий водоем?
Тем временем Гумилев умолк и внутри комнаты возникла пауза. Потом восторженно затараторил Чуковский:
– Коля, Николай Степанович… Это великолепно, это…
И он аж подавился от восторга, закашлялся. Послышались хлопки тонкой, с длинными пальцами – белая кость, голубая кровь! – гумилевской ладони по костлявой, чахоточной – разночинец, интеллигенция гнилая! – чуковской спине. И легкий, словно бы затаенный смешок.
Наконец-то и она подала голос…
Ни слова одобрения, ни ахов, ни охов. Горькому в его укрытии стало чуточку легче. Гумилев таскается сюда не только ради прекрасных очей Варвары Васильевны – вбил себе в голову, что она необычайно тонко воспринимает поэзию… Вот и получи ее тонкое понимание – смешок. Да-с!
Чуковский вечно являлся вместе с Гумилевым. Корнея, как подозревал Горький, влекло вино, итальянское вино, которого – разумеется, стараниями Алексея Максимовича – у Варвары Васильевны имелся немалый запас. Разумеется, Горький не препятствовал ей принимать друзей и угощать их его вином. Однако задолго перед тем, как Чуковский с Гумилевым должны были прийти – а те повадились ходить каждое воскресенье, часам к четырем-пяти, как на вечернюю службу (не на советскую службу, понятное дело, Чуковский в своем издательстве появлялся годом-родом, а как раньше добрые люди на церковную хаживали), – Горький в предчувствии неизбежности дурно себя чувствовал. Представлял: вот они идут, идут по великолепному мертвому Петрограду… Вышли загодя, потому что дальний конец пешком предстояло одолеть. Воздух чист, как в деревне: ни верениц автомобилей, отравляющих воздух, ни дымов из труб – все теперь жили в лютом холоде, горячей пищи не готовили. Горький знал, что только в его одиннадцатикомнатной квартире на Кронверкском топилась ванная – сказочная роскошь! – другой ванной не было на десять километров в окружности. Ну и ладно, каждый живет так, как он живет. В квартире у Варвары Васильевны ванной не было тоже. Ну да Гумилев ведь не за ванной сюда ходит…
Алексей Максимович глянул в щелку и увидел: Варвара Васильевна, слушая стихи, сидит на диване, зябко кутаясь в кашемировую шаль. Гумилев изредка потягивал вино и попыхивал длинной папироской, а потом продолжал читать.
А Горький думал про гниющий водоем. Опасные строки… Вообще все стихотворение опасно. Опасны слова о том, что мы живем на задворках мира, средь теней, опасна строка про головы заговорщиц, которые отрублены старательным и грубым маятником времени, опасны мечты о каком-то ветре из далеких стран, которого не хватает в «проклятом этом захолустьи». Ну а уж за слова «здесь же только наше отраженье полонил гниющий водоем», услышь их какой-нибудь ретивый чекист (а те умеют все выворачивать наизнанку, даже самые невинные строки, а здесь и выворачивать ничего не нужно, все налицо и набело… вот именно, набело!), можно и к стеночке встать. Зря Гумилев уверяет, что он демонстративно аполитичен, революцию попросту не замечает, – он самый настоящий, типичный, как модно говорить теперь среди молодежи, белогвардеец.
Вдруг приступ зависти, ревности – мужской ревности, писательской зависти – сделался невыносим. Горький не выдержал и вошел в комнату.
Корней вскочил. Гумилев отставил стакан, но не поднялся на ноги. Варвара Васильевна в уголке дивана переводила глаза с любовника на поклонника. Лицо ее, очень красивое, кому-то казавшееся загадочным, кому-то простоватым, ничего не выражало, хотя в душе она так и трепетала от любопытства: что сейчас будет? Сцена? Или обойдется?
Горький ощущал, что в присутствии тонкого, надменного Гумилева сам он движется с какой-то застенчивой неуклюжестью, сутулится более обычного. Отчего разозлился и с трудом выдавил из себя:
– Отлично вы прочитали стихи… особенно последнее. Но о чем они? Да ни о чем! Метафоры ваши насквозь прозрачны. И уж очень вы на аллитерацию упираете, хотя «ж» – звук неблагозвучный. А у вас каждая строка жужжит:
Там, где всё сверканье, всё движенье,
Пенье всё, – мы там с тобой живем.
Здесь же только наше отраженье
Полонил гниющий водоем.
Гумилев изогнул одну бровь (как у них, у дворян, так получается, Горький понять не мог, сам-то он со своими мохнатыми седеющими бровищами никогда не мог сладить) и заговорил, спокойно стряхивая пепел с папироски: