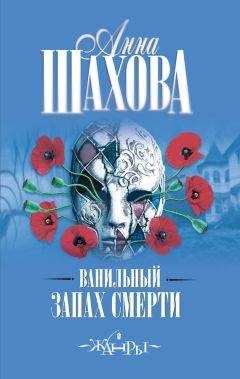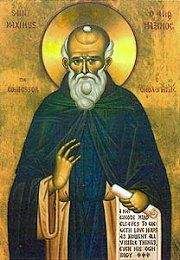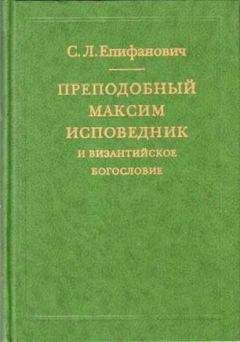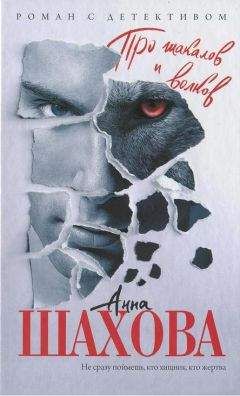Анна Шахова - Тайна силиконовой души
– Я знаю, о ком вы говорите! Зверева некоторые считают первым русским экспрессионистом. Но он писал в любой манере, а импрессионист выдающийся… – вклинился оживившийся Быстров.
– Откуда такие глубокие познания? – обрадовалась, всплеснув руками, эта «обновленная» Алевтина, к которой никак не могли привыкнуть «дознаватели».
Сергей стушевался и сдержанно ответил:
– Я люблю живопись.
– Как жаль, Сергей Георгиевич, что не представилось возможности пообщаться как следует, по-человечески. Да я бы и подумать не могла, что вы хоть косвенно знакомы с таким предметом, как живопись.
– Ну, знаете ли, Валентина Антоновна, я тоже предположить не мог, что вы не идиотствующая кликуша, а творческая, можно сказать, незаурядная личность.
– Да бросьте. Пустое. Незаурядная… Никчемная! – Алевтина закрыла лицо и закачалась из стороны в сторону.
– Сестра, ты бы покороче, – мягко попенял ей отец Вассиан. – Разговор все же официальный и серьезный. Все эмоции мы перелопатили-выплакали. Будь уж тверда.
– Да-да. Просто это все важно. Это самое тяжкое в моей жизни – то, о чем рассказываю. Остальное – послевкусие, расплата. Картины Зверева есть в Третьяковке, в германских и американских собраниях, а картины Павла… – Алевтина усмехнулась и развела руками. – В семидесятые Зверев, для которого не существовало никаких рамок, норм, казенщины, в искусстве был одним из самых копируемых художников. Подражать ему пытался и мой Закромов. Но больше всего Паша преуспел в копировании его образа жизни, а талант не только не приумножил, но и вовсе пропил. И еще он страдал эпилепсией. Когда умер, пьяный, задохнувшийся в припадке, я нянчила годовалую дочь – слабенькую уродочку с заячьей губой. Семьдесят девятый год. Мать-одиночка, без прописки, работы, истощенная, почти безумная. – Алевтина болезненно скривилась.
Быстров резко кивнул Светлане, у которой предательски подрагивал подбородок. Алевтина продолжила спокойно, раздумчиво:
– Хорошему слову вон батюшка Вассиан меня научил – ТРЕЗВЕНИЕ. Все мы не живем, а будто несемся в угаре. Чувств, хотений, бесплодных мечтаний. «Дайте, пожалейте, поймите! Верещим и клянчим, а сами ни дать, ни пожалеть, ни остановиться. Подумать, дать здравый отчет себе – что плохо, где истина, как пытаться изменить жизнь? – Алевтина встала, заходила в нарастающем волнении по комнате. – Мыла подъезды. Продавала лотерейные билеты, дворничала на заводе. Но долго из-за дружбы с зеленым змием нигде не держалась. И ютилась, где придется. Из коммуналки братик Пашин меня попросил, у него уже своя семья складывалась. А к маме, в село… Нет! Стыдно, больно, обузой-попрошайкой? Нет! Как не погибла в эти пять лет, один Бог ведает. А потом за бродяжничество угодила в тюрьму. Статья тогда была, помните, Сергей Георгиевич? – Быстров кивнул, как, мол, не помнить. – А Милочку, дочку мою, в приют забрали. Очень биться она тогда начала, в шесть лет. А я даже обрадовалась. Под присмотром врачей, накормленная – что ей с бомжихой судимой мыкаться? Разве могла я представить, как изломают там дитя мое?! Разве… – Алевтина упала ничком на колени перед иконами.
Быстров, вычерчивающий свои привычные линии на листе, думал о том, что исповедь нужно прекратить и везти Дрогину в отдел. Допрос отложить до завтра, оформив явку с повинной. Он сочувствовал женщине, но каждый раз, общаясь с преступниками, убеждался, что у каждого из них БЫЛ выбор и ВСЕ они выбирали путь саморазрушения. «Хорошее словцо, трезвение, это Дрогина права… Права!» – Быстров мягко, но требовательно сказал:
– Валентина Антоновна, давайте, пожалуй, собираться. Поедем в Эм-ск. Там и договорим.
– Простите! – вскочила с колен Алевтина. – Я уж теперь скороговоркой. Мне важно вот для Светочки. Для сестер. Пусть расскажет. Прощения за меня, погибшую, попросит. Прости, Фотиния, прости! – в ее кидании к Светке вновь появилось что-то от Алевтины-блаженной, но женщина быстро взяла себя в руки, села навытяжку на кровати. – Когда я вышла из тюрьмы, то перестройка полыхала. Хаос! Судьба упрямо тянула меня в Москву. Хоть дали мне какой-то квиток-направление в О-скую область на работу. Но где-то около Москвы находился приют моей Милочки, и возможностей кормиться столица давала больше, чем какой-то О-ск. С кормежкой все ж не складывалось. И вот шла я голо-одная, обуви зимней нет, плащик, а на улице мороз под двадцать градусов, и прямо перед стекленеющими от инея глазами огромное объявление на воротах храма, что стоял в лесах: требуется сторож и уборщица. Зашла я в храм. А ведь даже перекреститься толком не умела. Смешно. И навстречу мне элегантный такой, седеющий поп с изюминами-глазами. Пронзил просто… И лицо породистое, внушительное. Запахом духов обдал меня, и так брезгливо:
– Не подаем! Не кормим!
Я силы последние собрала, чтоб не упасть и не разрыдаться:
– Хочу уборщицей к вам. И сторожем. За еду. Спать могу у порога. И, кажется, все-таки я упала. Помню смутно. Какие-то женщины подбежали, а поп ушел. Сижу на лавке, под иконой «Взыскание погибших» – она потом любимой моей стала. Заступницей. Чашка в руке с чаем, горбушка… Служба началась – а я дремлю, и будто ангелы меня баюкают-поют.
Служба кончилась, храм пустеет, вон и за ящиком свет погасили. Бабулька все заперла и мне машет – уходи, мол… Думаю, ну, пора. Ангелы пропели, можно теперь и помереть. Совсем не страшно стало умирать. Это я так думала, что пора счеты с жизнью сводить. А поп с изюминами вдруг подходит ко мне, дубленочка высший сорт, ботиночки поблескивают.
– За убийство, за воровство сидела? – спрашивает.
– Да нет, говорю, бродяга я. Так уж получилось. А сама искусствовед, – и справку ему из колонии тяну. Он засмеялся на искусствоведа. А улыбка-то неприятная. Не красила она игумена Псоя. Имечко тоже не слишком благозвучное было.
– Ну, иди, говорит, сторожихой-уборщицей. Но если своруешь?!.
«Прибьет – как есть прибьет», – поняла я.
Так Бог меня спас. А враг уж новых искушений приготовил. Отец Псой оказался человеком верующим, сильным, нежадным, но совершенно дремучим, и, главное, бешеного нрава. Морали, рамок не признавал вовсе. Мне Псой доверял. Вернее, я стала молчаливым свидетелем его дикой жизни, вроде стула, с той только разницей, что могла посочувствовать, вытереть за ним, убрать. Словом, то ли мать, то ли сестра или сиделка… Да, он был очень молод. Это только казалось, что ему лет пятьдесят, а на деле едва тридцать исполнилось. И, наверное, только я знала, как он каялся. До приступов сердечных, до кровавых слез. Поклоны, поклоны… Часами… Но потом – снова срыв – водка, разгул, таблетки…
Отец Вассиан поднялся, подошел в Алевтине, что-то сказал ей тихо.
– Да-да… Я коротко… Я все уже… Я только…
Игумен строго, протестующе поднял руку:
– Все-все. Хватит нам о твоем Псое. Упокой, Господи, его душу.
– А он умер? Молодым? А что ж с ним стало? – Светку разбирало любопытство.
– Он умер у меня на руках, от внезапного приступа сердечного, сразу после отъезда «скорой» из его коттеджа. И успел он передать мне ВСЕ сбережения, что были в доме и ВСЕ ценности со словами, чтоб проходимцам, которые крутились вокруг него, и дальним родственникам-лизоблюдам не достались. Им, батюшка сказал, и до´ма со счетом в банке хватит. Время уже наступило смятенное, коммерческое, но и возрожденческое. Девяносто пятый год. Храм, колокольню новые отгрохал Псой. Подворье выстроил… А со мной… Бутылку, говорит, с маслом подсолнечным тащи, перстни снимай с рук – руки отекли, посинели. Я плачу, за «скорой» опять бежать хочу. А он схватил за локоть так мертво и – уже белыми губами произносит: «Дочь-то найти разве не мечтаешь? Пожить с ней по-человечески?»
Алевтина вдруг выпрямилась и с вызовом, глядя Быстрову в глаза, отчеканила:
– И я все взяла!.. Сбережения у меня к тому времени и свои были – лавкой церковной у метро командовала, закупками для храма занималась. Хорошие деньги текли. В общем, купила комнату в коммуналке на Пятницкой. Потом и вторую комнату выкупила за бесценок. И Милу нашла. Но она уже стала чудовищем, – рассказчица страшно оскалилась, болезненно засмеялась: – Любимым, родным. Но зверем. Тогда я будто разум временами терять стала. А поюродствую – и легче… – Послушница вытаращила глаза, завертела по-сорочьи головой, застрекотала тоненько, надсадно: – А что мне нада, дурре бессовестной? Кипяточку, да крышу. И все! Псалтирь-то всегда рядом – и хорошо, как за пазухой у Отца… Хорошо… Ой-хо-хо-нюшки-и-и…
Игумен Вассиан встал, шагнул к Алевтине, положил руку ей на голову, что-то зашептал. Женщина утихла. Светлана и Сергей в оцепенении наблюдали за метаморфозами, происходившими с этой несчастной, странной женщиной. Придя в себя, Дрогина, как ни в чем не бывало, продолжила свой спокойный и жуткий рассказ.
– Сама-то Милочка в матери уже не нуждалась. Поздно, говорит, кукушка опомнилась. Все так… все так… поздно. Она операции стала делать на лице. Замуж вышла. А я обуза, никчемушная баба… К Богу поближе подалась. В монастырь. Куда ж еще? Квартиру продала, все деньги Милуше. И иконы старые, особые, что Псой дарил. С этого ее бизнес и начался. Жалко, батюшку уж после встретила. И тогда только поняла, что такие, как Псой, – исключение.