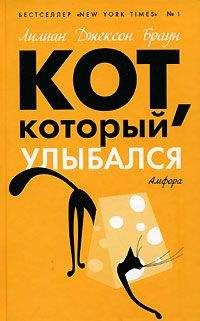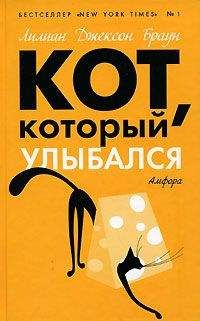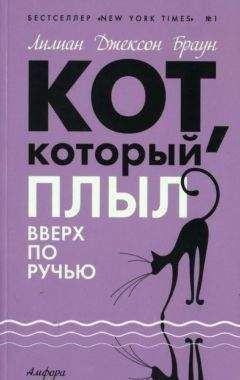Юлиан Семенов - Пресс-центр. Анатомия политического преступления
Матэн усмехнулся, вспомнив, как на конгрессе криминалистов в Алжире русский профессор из института права произнес забавный спич о том, как человек попал в рай и как там было прекрасно — и ангелы пели, и молочные реки текли в кисельных берегах, и неведомые птицы порхали вокруг тенистых деревьев, но в конце концов, по прошествии лет человеку стало скучно, и он обратился к апостолу Петру с просьбой разрешить ему туристский вояж в ад. Легко получил на это соизволение и оказался в аду, встретил там друзей, погудел от души в ресторане, стриптиз, цыгане и все такое прочее, переспал с прекрасной девкой в номере отеля, вернулся — к указанному сроку — в рай, и стало ему там до того тоскливо, что он запросил у апостола право перебраться в ад навсегда, ему дали такое право после долгой беседы, отговаривали, рекомендуя еще и еще раз подумать, но человек был непреклонен и перешел в ад, но в этот раз не было ни кабачков Монпарнаса, ни цыган, ни отелей с потаскушками на Монмартре, была котельная, где на плите жарили грешников, а вокруг суетились деловые черти с рогами, и новообращенный жалостно закричал: "Господи, да что же это?! Все ведь было иначе в первый раз!" И апостол, явившийся ему в небесах, разъяснил: "В этом, милый, вся разница между туризмом и эмиграцией…"
Матэн откинулся на спинку стула, и в тот же миг Шор открыл глаза; они были полны ужаса.
— Что ты? — спросил Матэн. — Приснилось плохое?
— Нет, нет… Я сплю без сновидений… Ты очень торопишься?
— У меня еще есть несколько минут. Хочешь, я пришлю сюда Папиньона? Он, правда, сидит в бюро вместо тебя, работы невпроворот, но он предан тебе, как пес…
— Кто ведет дело Грацио?
— Ну его к черту, это дело, Соломон… У нас его забрали, и слава богу…
— Кто забрал?
— Тайная полиция.
— Почему?
— Не хочу интересоваться больше этим делом, — ответил Матэн. — Я посчитал для себя лучшим вообще забыть о нем. Ну их к черту. Итальянцы, они все мафиози, и не спорь, пожалуйста, это действительно так.
Шор почувствовал, как в глазах его появились слезы. Да, Матэн всегда был мне другом, он думает так же, как и я, он надеялся, что я все забыл, хотя над ним еще больше начальства, чем надо мной, и ему ужасно трудно. Матэн человек простой, маленький человек, который боится этой жизни так же, как я, и он дал мне совет, чтобы я все забыл, а он не имел права на это, я очень хочу забыть, я сделаю все, что можно, лишь бы забыть тот номер, что был на машине, которая меня убивала, только смогу ли я забыть его? Наверное, смогу, я же смог забыть лицо Эриха, почему бы мне не забыть номер машины, которую вел сегодняшний фашист?
73Из бюллетеня Пресс-центра:
Корреспондент агентства Рейтер передает из Гариваса:
"Сегодня в десять часов вечера по национальному телевидению выступил министр энергетики и планирования инженер Энрике Прадо. Он заявил, что "в течение последних семи дней были проведены переговоры в Вашингтоне, Милане, Мадриде, Восточном Берлине; состоялись встречи послов с представителями соответствующих организаций в Токио, Москве, Париже, Пекине и Кувейте".
Наши партнеры на переговорах в Вашингтоне, продолжал министр Прадо, проявили великолепное знание обстановки в Гаривасе. Все наши предложения, заявили они, будут самым тщательным образом изучены соответственно той позиции доброжелательства, которая свойственна Соединенным Штатам по отношению к развивающимся странам вообще и к Гаривасу в частности. На вопрос о том, когда следует ждать ответа — а я не считал возможным скрывать сложное положение, обострившееся в связи со смертью нашего партнера Леопольда Грацио. — мне ответили в том смысле, что энергопроект весьма не простое и очень дорогостоящее предприятие. "Всякого рода поспешность может только нанести ущерб, ибо пресса США внимательно следит за тем, куда и на что расходуются деньги налогоплательщиков, особенно ныне, во время инфляции и роста дороговизны", Предложения, обещали нам, будут рассмотрены в течение месяца или двух. При этом был задан вопрос, готовы ли мы принять экспертов, которые должны провести разведку наших энергоресурсов на местах, составить документацию, открыть три бюро по координации работ в столице, на побережье и в северных районах, где наши "реки наиболее порожисты и энергоперспективны". Я ответил североамериканским партнерам, что мы уже имеем документацию, сделанную строительными фирмами покойного Грацио, и готовы передать ее для анализа и исследования немедленно. Я сказал, что правительство, видимо, не будет возражать против повторного исследования североамериканскими специалистами тех расчетов, которые уже утверждены. При этом заметил, что мы не просим дотации или безвозмездных ссуд, мы суверенное государство, гарантирующее все выплаты с довольно высокими процентами тем банкам и корпорациям, которые, если администрация не станет чинить препятствий их работе в Гаривасе, будут согласны незамедлительно начать финансирование проекта. Речь идет о том, чтобы нам дали заем, который мы не смогли получить после кончины Грацио, тот заем, который позволит нам, не теряя ни дня, закупать генераторы, трубы, экскаваторы и грузовые автомобили для строительства. Точного ответа о сроках мы не получили, однако, повторяю, переговоры проходили в обстановке доброжелательства. Что же касается миссии в Бонн, то, видимо, окончательное решение наших тамошних партнеров будет зависеть от консультации с Уолл-Стритом. Особое место в нашей поездке занимал Мадрид. Переговоры, проходившие там, я бы назвал обнадеживающими, ибо именно в Мадриде администрация отнеслась к нам с дружеским пониманием. Уже обещана помощь в строительстве цеха по сборке грузовиков. Оплата за это предусматривает расчеты бобами какао после того, как снимут урожай, так что не предстоит никаких трат из тех ограниченных средств, которыми пока еще располагает государственный банк. Испанские контрагенты внесли целый ряд предложений, продиктованных искренним расположением к республике, мы доложили о них правительству. О том, каким будет решение кабинета, сообщит, вам полковник Санчес. Контакты в Москве и Токио также весьма плодотворны и продуктивны. В ближайшие недели к нам приедут делегации из Москвы, Токио, а также из Восточного Берлина.
Министру Прадо был задан вопрос, в какой мере он верит добросовестности североамериканцев, их искренности.
"Я получил образование в Далласе, — ответил министр Прадо, — и я благодарен моим учителям. Они знают толк в работе. Я, как и полковник Санчес, восхищен трудолюбием и талантом инженеров, исследователей и рабочих Северной Америки. При этом я, как и все вы, знал тех северных американцев в Гаривасе, которые вели себя совсем по-другому, их ни в малой степени не заботила судьба нашей родины, а лишь собственные сверхприбыли. Мы готовы иметь дело с теми гражданами США, которых отличают прагматизм, честность и доброжелательство, но не слепой эгоизм".
На вопрос, подпишет ли правительство договор о займе с Москвой, если таковой будет предложен, министр Прадо ответил, что не правомочен давать ответ на этот вопрос без консультации с остальными членами кабинета.
Корреспондент Ассошиэйтед пресс спросил министра, какому направлению в политике он более привержен — правому или левому.
Министр Прадо ответил, что считает себя инженером, а не политиком. "Я национальный технократ, служащий интересам Гариваса, — улыбнувшись, заключил он. — И это означает, что я, как и другие члены кабинета, поддерживаю курс полковника Санчеса".
7424.10.83 (23 часа 41 минута)
Когда Степанов, разбитый после восьмичасовой гонки из Марселя в Шёнёф, принял душ, было около полуночи. Тем не менее он позвонил Мари; та попросила приехать; в голосе ее были отчаяние и усталость; Степанов отогнал машину в "авис", пришел к Мари, долго сидел с нею, ощущая какую-то пустоту внутри. Сказать всю правду ей он не мог, всегда надо оставлять человеку "три гроша надежды"; успокоил как мог, условился о встрече завтра в восемь утра, как говорится, утро вечера мудренее.
Он возвращался от Мари, еле волоча ноги, болела спина, затекли руки. На улицах было пусто; свет фонарей казался размытым оттого, что с гор спустился туман; шаги были гулкими, отлетая, они ударялись о стены домов, словно кто-то невидимый хлестал мокрым полотенцем по гальке, покрытой серебряным инеем.
Первый раз ты выезжал за границу лет двадцать семь тому назад, сказал себе Степанов, и тебя заботливо предупреждали, как опасно выходить на улицу, да еще одному, после десяти вечера; ну же и заботимся мы друг о друге! Словно все у нас полнейшие несмышленыши, право. Сейчас таких советов не дают, тоже, кстати, знамение времени. Правда, нечто подобное мне говорили, только не дома, а в Новом Орлеане года три назад в отеле, где я остановился. До сих пор отчетливо помню доброе лицо громадного негра в синей форме, с пистолетом на боку, охранника гостиницы, где я остановился; помню, как он предупредил, когда я вышел из номера в девять вечера: "Не глупите, опасно ходить по нашей улице, ограбят или убьют. Лучше вызовите такси, доезжайте до центра, тут всего километр, и прогуливайтесь себе на здоровье, там много полиции. А наша улица опасная, здесь режут. Если благополучно вернетесь, обязательно заприте дверь номера на цепочку и никому, слышите, никому не открывайте, когда будут стучаться, пока не позвоните сюда, вниз, портье. Мы поднимемся, вы же запомнили мое лицо, посмотрите в глазок, поморгаем друг другу, только тогда снимите цепочку". А отчего ты вспомнил об этом, спросил себя Степанов. Оттого, что почувствовал сейчас нечто? Кто придумал эту совсем не научную, но зато понятную всем фразу: "Ощущаю кожей"? Ничего нельзя ощутить кожей, если ума нет и сердце каменное… Мама говорила про тех, кого не любит, что у них "мохнатое сердце". Господи, как же был гениален Толстой, никто не смог лучше и точнее сформулировать вселенскую истину о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а вот несчастливые… Снова ты что-нибудь напутал в цитате… Наверняка, напиши я такое, добрые редакторы найдут эту толстовскую фразу, внесут правку накануне сдачи рукописи в набор, а мы их ругаем за дотошность, как не стыдно… Прав же был Толстой: тавро несчастливой семьи, если только мать или отец не смогли найти силы подняться над собою, отпечатывается на детях и внуках… Где это я читал про то, как муж с женою расстались, а у них были две дочки. Муж сошелся с другой женщиной, он был геолог. И его бывшая жена предложила скрыть случившееся от детей, пока не подрастут: "Я скажу им, что ты работаешь на Камчатке, но ты будешь приезжать раз в год на двадцать четыре дня отпуска сюда, к нам, и мы будем жить в моей комнате, твоя кровать как стояла, так и стоит там. Пусть у девочек сохранится уверенность, что мы по-прежнему вместе. Я им все объясню позже, и они поймут тебя, и спасибо тебе за то, что не стал ничего от меня скрывать, а поступил так, как мы уговаривались, когда полюбили друг друга; любовь — это не ярмо, а счастье; нельзя удерживать человека, если любовь кончилась, это средневековье, я была бы самым несчастным человеком, если б чувствовала в тебе постоянную больную ложь". И так они жили девять лет, пока дети не поступили в институт… Ложь во спасение? А ложь ли это вообще? Сказка — ложь, да в ней намек, добру молодцу урок, как это говорил Александр Сергеевич… Как же хорошо, что у нас перестали ворошить многое личное, связанное с именем Пушкина… "Хочу все знать!" Страшноватая рубрика, кстати говоря, во-первых, всего знать нельзя, это хвастовство, а во-вторых, нужно ли знать все каждому? Исследователь — качество редкое, сплетник — распространенное. Прав был писатель, утверждая, что не всякая правда нужна человеку, есть такая, которая может сломать неподготовленного, слабого, лишенного широкого знания… Значит, ложь во спасение? Видимо, иногда именно так. Но ведь очень противно врать, не согласился с собой Степанов, даже в мелочи. Ну, что ж, язык — штука необъятная, замени слово "ложь" на "компромисс", и все станет на свои места. Будь ты человеком компромисса, твои отношения с Надей не поломались бы еще пятнадцать лет назад… Она человек одного духовного строя, ты другого, ты прожил много жизней вместе со своими героями, их чувствованиями и мыслями, ты был распираем множественностью, а она всегда только выявлением самости; я высшая правда, ибо я честна, благородна, я люблю тебя и верна тебе… Но ведь и я, наверное, был не жулик, и я любил ее, я и поныне до горькой боли помню наши прекрасные первые месяцы, когда мы бродили по узеньким арбатским переулкам, смотрели на цветные абажуры с бахромой в маленьких окошках старых особнячков и по ним старались примыслить жизнь людей, населявших эти комнатушки… Черт, как это страшно — тенденциозность памяти, а?! Моя работа приучила меня к правде, к холодному логическому объективизму, а у нее, наверное, каждая новая обида в противоречии с памятью растворяла ее в себе… Да что ты все время валишь на нее, на нее?! Оборотись на себя! А разве я этим не занимаюсь постоянно, возразил себе Степанов. Я знаю, что во мне много плохого, наверное, больше, чем в ней, но я знаю и то, что никогда и никого не любил так, как любил ее, и изменил ей только из-за непереносимой обиды, а что может быть мучительнее бесконечных подозрений, когда человек начинает уже считать себя мерзавцем; не веришь, уйди. А почему не ушел ты, отчего не ушел в первый же год, когда эти беспричинные подозрения перестали быть эпизодами, а стали страшным, изнуряющим душу бытом и когда ты впервые понял, что она любила не тебя, а свою любовь к тебе? Кто поверит сейчас, что тебе было страшно за нее, не приспособленную к жизни, своенравную, любимую, избалованную? Кто поверит, что ты "такое дерево", а она другое? Снова я про стихи Поженяна, никак не могу отойти от той поры нашей молодости, когда еще не настала разобщенность и все мы были вместе… Да, я дурацкое дерево, я поначалу думаю о том, как будет другому, а потом уже о себе, все люди, рожденные в октябре, такие, как считают здешние гороскопы… И Бэмби вот больше всего боится обидеть человека, который даже и не друг ей, но ведь такая доброта порой хуже воровства. "Надо было вам давно разойтись". Да, дочь говорила так много раз, но впервые она это сказала, став взрослой… А ведь память о счастье, которое было, столь сильна в людях и такая в ней сокрыта надежда, особенно с возрастом, как это ни странно, А когда надежда исчезла до конца, осталось желание сохранить видимость для нее же, для маленькой тогда Бэмби… Хватит тебе, оборвал себя Степанов, надоело! Дочь выросла… Да, выросла, но она любит и Надежду, и меня, как любила, когда была маленькой, вспомни, когда разводились твои старики, а тебе было двадцать три года, разве ты был спокоен тогда? Вот все и закольцевалось фразой Толстого, подумал он, все начинается с великого, им и заканчивается.