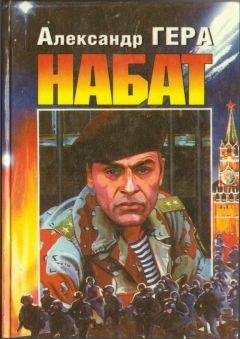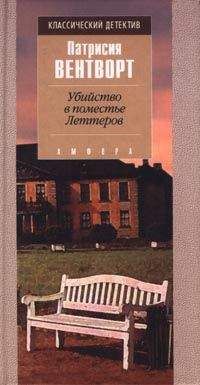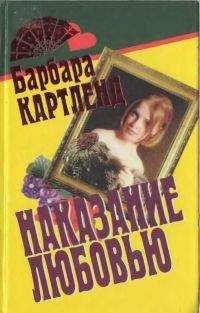Николай Псурцев - Голодные прираки
Учитывая, что за семь месяцев бездеятельного лежания я изрядно поистратился, я решил вернуться обратно в институт, в коем до моего лежания я на договорных началах подрабатывал переводами…
Я вернулся. И не в самое лучшее время. Институт бурлил. Люди требовали повышения зарплаты. Дело в том, что сам по себе институт, занимающийся проблемами истории, конечно, прибыли никакой не приносил. Но… Нет при институте еще давным-давно была создана мощная издательская база. И эта база сейчас работала на полную катушку и приносила, естественно, немалый доход. Но сотрудники института от того дохода не имели ни копейки. Все излишки, видать, уворовывал подлец-директор. Когда, заливаясь слезами, водкой и компотом, работники института мне все это рассказали, я подумал, дрожа от восторга: «Ага! Вот оно – действие!». Не мешкая, я записался к директору на прием и в тот же вечер уже оказался у него в кабинете. Предварительно я, конечно, таинственно намекнул придурковатой секретарше, мол, никого не пускать – ссссссерьезнейший разговор мы будем вести, в том числе и о Вашей, Алевтина Ксенофонтовна, зарплате! Что я не сделал первым делом, когда вошел в кабинет к этому низкорослому ушастому и носатому пятидесятилетнему притырку, так это я не поздоровался. Я просто подошел к столу, ухватил подлого начальника за его жиденькие волосенки, подтянул его голову к себе и несильно ударил мягкокостного по кадыку. Притырок захрапел и потерял ориентацию. Тогда я достал из куртки припасенный кусок крепкой веревки, надежно обвязав ею ноги директора, другой конец веревки привязал к радиатору отопления, после чего открыл окно и, приподняв директора, перекинул его через подоконник и стал потихонечку травить. Когда директор весь оказался за окном, из-за подоконника торчали только его ноги, я спросил его ласково: «Ну, что, пиздюлина, будем делиться?!» «Аааааа… Еееееее…, Иииии… Ооооооо… Ууууууу… Эээээээ… Ююююююю… Яяяяяяяяя…» – ответил белогубый директор, что, по моему разумению, означало следующее: «Уважаемый и любезный Антон Павлович Нехов, с великой радостью и удовольствием сообщаю Вам, нижайше, и с поклоном, и с изъявлением почтения, и всего такого прочего, что с сегодняшнего дня все сотрудники моего института будут получать столько, сколько они хотят, исходя, конечно, из нашего реального дохода, – и ни копейкой меньше. А уворованные мною деньги я самым скорейшим образом верну, кто бы сомневался, в казну института».
Именно это, собственно, на самом деле его мычание и означало, в чем я и убедился, вернув директора после его короткой речи обратно в его директорское кресло, потому как, сев в кресло, директор тут же, без последующих уже слов, подписал протянутый мною и подготовленный заранее бухгалтерией приказ о повышении зарплаты и гонораров. После чего я развязал лопоухому ноги и строго-настрого приказал никому о нашем разговоре не рассказывать, и ни милиции, ни государственной безопасности не доносить, потому как директор прекрасно знает, что у него есть родные и близкие, в частности жена и дети, и случись что не так, никто не может гарантировать им сохранение здоровья и жизни – ни Бог, ни царь и не герой. Директор кивнул обреченно. И я понял, что он все понял.
Всю следующую после этого события неделю я готовил к печати перевод книги Стивена Топсона «История как наука о смерти», три года назад прогремевшего в мире научно-популярного бестселлера. В конце недели мне позвонили из издательства «Юпитер» и предложили издать эту книгу у них по таким-то и таким-то гонорарным расценкам. (Обращались они именно ко мне потому, что все права на книгу Топсона имела моя будущая жена, та самая, которая спасла меня от погони, – Топсон был приятелем ее отца.) Расценки были умопомрачительные, не то что у нас в издательстве (даже после моего разговора с директором-притырком мы смогли повысить размер гонорара только в три раза), и я, конечно, согласился, не раздумывая. Связаны ли эти события друг с другом – беседа с подлецом директором и бешеный гонорар за книгу – не знаю. Но знаю, что связаны.
И вот тут почувствовал я, что я вроде сейчас как на принудительных работах. И перестать бы действовать уже хотелось – и так что до невмоготы доходило, – а не получалось, потому как понуждало меня что-то к действию, что-то такое, что было свыше, наверное, и пихало меня в спину и пинало под зад, давай, давай, мол, сучий потрох, действуй, мать твою.
«Нет, нет, – молил я. – Не хочу, отвык я действовать за пять-то годков, что с войны прошло. Да еще так глупо действовать, так нелепо, так бесполезно по сути, так бесполезно по сути! Ну, женщина досталась мне, ну, несколько денежек привалило – все одно бесполезно» Но не прислушивался я никак к своим же утолительным мольбам и, отрешившись решительно от себя, просящего лихорадочно, искал, что бы еще такое сделать, что-нибудь не такое, что все, кто вокруг, не делают и не хотят, что-нибудь. Что-нибудь.
Не зайди ко мне соседка (та самая, которая продукты мне приносила, когда я бездельничал семь месяцев) в какой-то вечер и не расскажи она о том, что мучит се и волнует ее, и волнует и до смерти преждевременно догоняет, я, конечно, разумеется, что-то другое обязательно бы придумал, может быть, похуже, а может быть, и получше, но придумал бы, и несомнительно, и несомненно. А тут и думать не пришлось – когда соседка-то мне все рассказала. Ее семья состоит из четырех человек, рассказала соседка. Она, муж и двое детей, мальчик и девочка, и живут они такой семьей вот уже много лет в однокомнатной квартире. «Знаю, знаю, – кивал я, – дальше». Трехкомнатную квартиру ее семье обещали еще аж годков пять назад – по закону в соответствии с очередью, – и все никак не дадут до сих пор, все никак. Все какие-то люди находятся, кто той квартиры трехкомнатной больше достоин, – то начальник какой, то бизнесмен, то родственник чей-то, то любовник, то любовница. И кет сил больше, говорит соседка, ходить по префектурам и по мэрии и правду там искать, нету сил, в пору удавиться,, предварительно детишек мокрозубых придушив и зануду мужа-трезвенника заколов.
«Так кто препятствует? – спросил я, наливаясь горячей радостью. – Кто конкретно?» – «Префект, – отвечала соседка. – Он, поганец кривоухий» – «Иди, – сказал я соседке, – и не думай более ни о чем. Веселись и песенки пой. Будет тебе квартира, я сказал».
А я, сам себя похваливающий и бранящий сам себя одновременно, стал собираться, как только за соседкой захлопнулась входная дверь, стал собираться в поход. Не одного дня дело, знал, а потому, пока собирался, усилием сильным настраивал свой организм на полнейшую и скорейшую мобилизацию, дабы квалифицированно и, разумеется, успешно выполнить данное себе задание.
Прежде всего я проверил исправность фотоаппарата, оснащенного мощнейшим телеобъективом, и диктофона с десятиметровым радиусом восприятия звука, затем почистил и смазал револьвер системы Кольта, пересчитал фирменные стальные отмычки, снял ржавчину с фомки и убедился, использовав кухонную табуретку, в работоспособности японской мини-электропилы (изрубал табуретку в куски к чертям собачьим, по-собачьи воя и хохоча по-собачьи).
А после того как сложил все необходимые предметы в большую спортивную сумку фирмы «Рибок», сел к телефону, взял в руки записную книжку и стал названивать всем, кто мог бы мне на несколько дней одолжить свой автомобиль. Задача оказалась самой из всего прочего труднейшей. Народ наш вообще по сути своей жаден и подозрителен. А те особи, которым я звонил по поводу автомобиля, оказались еще и самыми примерными и достойными представителями этого народа. При словах: «Ты не мог бы мне одолжить автомобиль на недельку за деньги, разумеется», на другом конце провода я слышал сначала тишину, а потом громыханье нервно бьющегося сердца, потом хрип, невольно вырывающийся из горла, а потом слабый, уже умирающий голос: «Ты понимаешь… Здесь вот какая вещь… Я не знаю, как тебе сказать… Я понимаю, что ты оплатишь и прокат, и ремонт в случае чего… Но вообще-то у моей машины… корь, нет, скарлатина, нет, ветрянка, нет, свинка, нет, сифилис, гонорея, трихомонада, цирроз карбюратора, уремия, воспаление втулки, дистрофия…»
Машину нашла мне все та же соседка. Кореш ее мужа-трезвенника алкоголик-актер из музыкального театра одолжил мне свой автомобиль всего за ящик водки.
Теперь я был готов полностью.
Префект оказался молодым сравнительно мужиком. Лет сорока, не более. Гляделся он стройным, гибким и достаточно привлекательным. Имел четко очерченные зеленые глаза, мягковатый нос и длинный пухлый рот.
«Ага, – глубокомысленно сказал я себе, сделав первый снимок префекта, когда он выходил из своего офиса. – Ага, кого-то ты мне напоминаешь, чистенький ты мой».
Короче, увидев префекта, я понял, что задание, которое я дал себе, не столь трудно выполнимо, как казалось до того, как я впервые увидел префекта. Единственно, кто мог бы сейчас помешать моим планам, это охрана. Машина с двумя телохранителями в первые два дня моего наблюдения постоянно следовала за «Волгой» префекта всюду, куда бы он ни ехал. Но на третий день я понял, что охрана меня волновать не должна. Дело в том, что на третий день, выйдя из офиса, префект отпустил охрану. Более того, он отпустил и шофера своей «Волги». После чего сам сел за руль и, неуклюже стронувшись в места, поехал туда, куда должен был, судя по всему, приезжать один, без свидетелей. У метро «Университет» он тормознул и открыл дверцу перед двумя молодыми ребятами, которые, по всей вероятности, именно его-то и ждали. Мальчишки были застенчивые и тихие, дорого одетые и выглядели оба примерно лет на пятнадцать-шестнадцать. Когда они сели в машину, я заглянул в салон «Волги» через телеобъектив и удовлетворенно поцокал языком, увидев достаточно ясно, как мальчишки отнюдь не по-дружески расцеловываются со стройным префектом. Еще через минут семь «Волга» остановилась возле десятиэтажного дома за метро «Проспект Вернадского», где, выйдя из машины, все трое направились в этот самый дом. Я успел вбежать в подъезд вместе с ними. Они доехали на лифте до третьего этажа. По звуку я определил, в какую квартиру они вошли. Поднявшись, я осмотрел замки и убедился, что открыть эти замки для меня будет пустяковой забавой. Я вышел из подъезда и вернулся к машине.