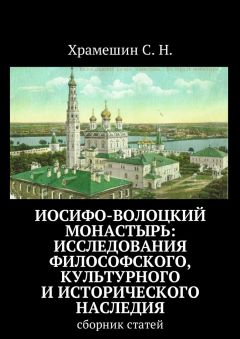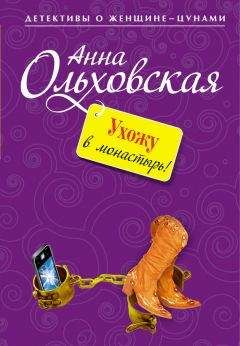Василий Казаринов - Ритуальные услуги
Два дня, проведенные, в подвале нашего офиса, куда Люка распорядилась поместить мой временный дом, прошли как в сказке: настолько комфортно я давненько себя не чувствовал и потому, стараясь не нарушать ощущения полнейшего душевного покоя, поднимался из гроба разве затем, чтобы открыть новую банку "Гессера", упаковку которого Люка предусмотрительно доставила мне тем же вечером, или на скорую руку заморить червячка, сжевав пакетик чипсов "Эстрелла", к пиву прилагавшихся. К исходу вторых суток возлежания на одре отчего-то взгрустнулось — отчего, неясно, потому что лучшей доли, чем та, которая мне так неожиданно выпала, вялая от безделья фантазия не подсказывала. Оно понятно: лежать в гробу, окутываться колыбельными звуками музыки, лакать пиво и ни о чем не думать — это ли не есть то самое простое человеческое счастье, о котором каждый из нас втайне мечтает. Природа же легкого томления, которое начинало смутно тревожить плоть, открылась в момент вечернего визита Люки, заглянувшей в подвал проведать меня. Пикантные формы ее тела под полупрозрачным платьем настолько, видимо, взбодрили мое воображение, что результат его работы красноречиво отразился в моем взгляде — особенно в тот момент, когда она уперлась руками в край домовины и зябко пошевелила плечами, отчего сиреневый дым ее платья так мягко и призывно вспух на груди, оттеняя валкое колыхание пышного бюста.
— Ага... — с пониманием произнесла она, наблюдая за тем, как я поворачиваюсь на бок, освобождая уютное пространство слева от себя, и некоторое время пребывала в нерешительности, явно туманящей взгляд ее больших, навыкате, карих глаз, однако взяла себя в руки и, сведя брови к переносице,; решительно мотнула головой: — Ну нет. Эту будет уже слишком. В конце концов существует профессиональная этика... И потом... Я, собственно, зашла, чтобы предложить тебе освободить жилплощадь. Этот гроб нам понадобится на следующей неделе.
— У нас опять пристрелили какого-нибудь банкира? — Я заворочался в скользком атласном ложе.
— Да нет... Сюда ляжет несчастный цыганенок. Ну тот, который вмазал себе "золотой выстрел". Вроде вся его бесчисленная родня уже прибыла. И отец хочет, чтобы все было по высшему разряду. Бедный дядька. Он за это время постарел лет на двести.
Заготовленный вариант борьбы с томлением плоти моментально расплылся, отпрыснувшись прохладной потовой росой, вспухшей на лбу. Она права. И дело тут не в профессиональной этике.
— Ну ладно, отдыхай до завтра, — сказала Люка, тяжелым вздохом приподняв свою пышную грудь. — Я пойду. Хочу спать.
— Хорошо, — сказал я. — Спи спокойно. И пусть тебе приснится что-то хорошее.
— М-да... — грустно отозвалась она. — Почему все хорошее является нам только во сне?
— Не знаю. Такое время. Сейчас время сна. Даже когда мы бодрствуем. Гребем в похоронном челне, как я. Или делаем на этом транспорте бизнес, как ты.
Она отчего-то смутилась и, скосив взгляд в сторону, тихо и будто бы между делом спросила:
— А что это за парень? Ну, тот, к которому я приезжала на нашем авианосце за твоим телом?
"О господи, — подумал я. — Этого не может быть. Этого не может быть, потому что не может быть никогда".
— Он лучший мужик, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Во всех отношениях.
— Во всех? — заинтересованно переспросила она.
— Я вовсе не то имел в виду, о чем ты подумала,
— Знаешь, Паша, — грустно улыбнулась она. — Я ведь тоже имела в виду вовсе не то, о чем подумал ты.
Какое-то время мы молча смотрели друг другу в глаза, и я опять подумал — с оттенком легкой ревности: этого не может быть.
— Знаешь, Паша, я ведь баба, если ты успел заметить... И как всякая баба — просто по определению — курица. В сущности, курице нужен лишь насест. Усядешься поудобней, сгребешь крылом под себя своих птенцов и греешь их своим теплом. Или хотя бы одного птенца... — Она помолчала, теребя бретельку своего платья. — Почему он носит такие жуткие очки? Он что, слепой?
— Да. На один глаз. Второй у него нормальный. И мне кажется, он его на тебя положил.
— Правда? — спросила она с той степенью наивности и неуверенности, с какой пятиклассница отзывается на приглашение мальчика проводить ее из школы домой, потом прикоснулась губами к своей ладони и сдула с нее оттиск легкого, ни к чему не обязывающего, дружеского поцелуя: — Спи, лодочник. .
Я повернулся на правый бок, укладываясь поудобней, однако что-то мне мешало, упираясь в бедро. Я сел в гробу, сунул руку в карман куртки — это была книжка, на одной из страниц которой я на всякий случай записал номер бронированного "линкольна", завернувшего на церковный двор.
Книга вяло распахнулась, уронив затрепанное крыло мягкой обложки на мое запястье и открыв скромным и постным шрифтом тиснутый на пустой странице титул — "Окаянные дни", — паривший словно в невесомости в пространстве чистого листа, и оттиск этот, отслаиваясь от тонкой бумаги мутноватым дымком, походящим на тот, что вырастает тонким шатким стеблем из серого хоботка забытой в старой малахитовой пепельнице папиросы, и, причудливо извиваясь, местами густея, местами же просветляясь до состояния туманной прозрачности пристального взгляда, формировался во что-то такое, что напоминает воспринятые сквозь слой речной воды черты мучительно насупленного старческого лица. В мутноватых глазах старика стояло выражение той самой боли, которую я уже однажды испытал, стоя в открытой будке телефона-автомата на углу Лесной улицы, тупо прислушиваясь к молчанию Голубки, насквозь пропитанному ее слезами, и чувствуя, как в ткани моего одеревеневшего тела медленно входят новые крови, настоянные на клейких древесных соках...
Игры воображения настолько увлекли меня, что я с некоторым запозданием ощутил легкую щекотку в безымянном пальце, причиной которой было легкое касание высохшего травяного венчика, мучительно стремящегося — вслед за тонким побелевшим жалом травяного ствола — выскользнуть из плотной хватки туго спрессовавшихся книжных страниц.
Я качнул книгу на ладони — она распалась, вяло развалив затрепанные крылья, как поймавшая заряд кучной дроби птица, и затихла в предсмертной агонии, на том самом месте развалившись, где прервал свое чтение брат Анатолий, заложив между страниц тогда еще живую и сочную травинку, а потом с не слишком приличествующей его статусу шаманской интонацией изрек свою скорбную и невесомую, как дыхание, догадку о двух вариантах, среди которых не приходится выбирать.
Я смутно догадывался, каким смыслом это дыхание наполнено, — я начал его чувствовать уже в тот момент, когда он, оторвав ладонь от гладко отшкуренной доски, на которую должны были — со временем — лечь плавные иконописные мазки, коснулся моего лица, внимательно ощупал его, а потом безнадежно уронил руку, одним движением губ обозначив фигуру произнесенной в глубь себя фразы:
— Иного не дано. Либо так, либо эдак.
И потому сплетение литер в путаной вязи плотного текста меня не сбило с толку — я безошибочно вычленил в плотном абзаце его коренную жилу:
"Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, "шаткость", как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: "Из нас, как из дерева, — и дубина и икона", — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев".
Я медленно провел ладонью по лицу в надежде распознать в его жестких чертах хоть какой-то смутный намек на былые прикосновения той тонкой кисти, из-под которой выходят плоские иконописные лики, но ничего не услышал в себе и не увидел и вдруг испытал чувство облегчения — возможно, потому, что, жестко покусывая все это время губу, наконец-таки прокусил ее и услышал знакомый привкус крови. Я утер рот тыльной стороной ладони, на которой остался влажный, быстро темнеющий мазок.
— Хорошо, ребята, — тихо произнес я, глядя в пространство. — А ведь у меня есть шанс отвезти на тот берег, — я слизнул языком кровавый мазок, и вкус его пришелся мне по душе — возможно, еще и потому, что перед глазами встали того же сочного оттенка огненные цветы, выпестованные умелой рукой Саши Кармильцева, падающие отголосками своих коротких, но пышных цветений в черную гладь прудов на ВВЦ и отзывающиеся смутными всполохами в черном лаке бронированного "линкольна".
Глава седьмая
1
Фургон с искрящимся логотипом на борту я поджидал у поворота к промышленной зоне, в тени старого каштана, утомленного солнцем, белой цементной пылью и чадом выхлопов, изрыгаемых тяжелыми грузовиками, — густая тень его кроны, казалось, парила над обширной лужей у железных ворот какого-то густо дышащего запахами горячего металла заводика, словно опасаясь прикоснуться к поверхности мертвой воды, в которой даже мутноватый солнечный свет, пробивавшийся сквозь пыльную листву, закисал и гнил, распадаясь в радужной гамме тонкой мазутной пленки, — ночью прошел мощный гулкий ливень, и его расплесканные по колдобинам и выбоинам в асфальте визитные карточки еще не успели выцвести, на солнце, обратившись в сгустки отливающей скользким лаком грязи. Я закурил, окинул взглядом место засады, в которой поджидал Саню, подремывая в старых Люкиных "Жигулях" шестой модели: этот слегка уже тронутый тленом ржавчины рыдван без дела стоял на вечном приколе возле нашего офиса, и я им воспользовался: ключи от своей "субары" Люка мне, разумеется, не дала, а иного транспорта под рукой не было, за исключением катафального "кадиллака", габариты которого и слишком броская внешность никак не годились для той затеи, смутные контуры которой начали складываться в моей голове прошлой ночью, когда, лежа в гробу, я посасывал сочащуюся из прокушенной губы кровь, находя, что вкус ее мне нравится все больше и больше.